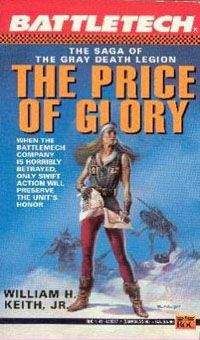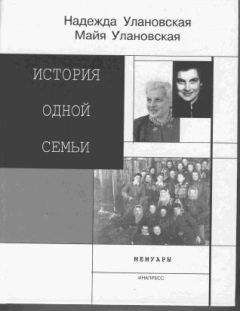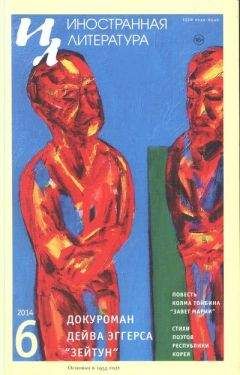Ина Голдин - Честь семьи Черроне
— Знаю, — кивает девка.
— Никто его не толкал.
— Я-то видела, — качает головой девка. — Я видела. Не слепая, поди уж. И не дура.
Синьора хмурится:
— И чего ты от меня хочешь?
— Могу продать вам имя, — говорит девка, непристойно перекатывая в губах сигару. — А могу — дальней семье вашего муженька. Вот уж кому будет интересно.
— Что ж ты раньше молчала?
— Раньше, — вздыхает красотка, — я могла заработать по-другому.
— Не здесь. Я найду деньги…
— А потом кто-нибудь найдет меня, — хрипло смеется девка. — Только я не одна знаю. Знают Черроне. Но они умеют молчать. И будут молчать, пока я жива.
— Я найду деньги, — повторяет Синьора.
Казалось бы. Пусть пролает еще одна собака — здешнему ветру не привыкать, унесет и это. Но Синьоре неуютно. Старый Энцо Бастарагацци снится ей до сих пор. Энцо, забравший ее из семьи, из которой никто другой не взял бы. Энцо, видевший все за свою долгую жизнь, и в их первую ночь смотревший на Синьору так, будто до нее ничего не видел. Энцо, который не знал, что ей хотелось большего. Бедный старик, как-то ночью поскользнувшийся неловко и упавший в море.
Послать в бордель вместо себя Синьоре некого. Идет одна — без слуг, в мужской одежде и шляпе, простеньких, без цветов семьи. Только девка сама и знает, кого ждать. А остальные — видели, как по лестнице всходит мужчина. Что за женщина оденется в плащ и шляпу? Что за женщина поднимется в комнату в доме, куда и за порог переступить стыдно?
Хорошо обманывать судьбу, пока она не обманет тебя.
— Надо же, не соврали, — девка с уважением смотрит на деньги.
А Синьора глядит на нее и думает с глупой обидой: вот от кого Энцо шел в тот вечер.
Так думает Cиньора; и оттого не сразу понимает, что стоит спиной к окну. Поздно понимает.
Пущенная с улицы стрела входит под лопатку одетого в черное мужчины.
Онеста запрещает убивать женщин.
Но онеста не говорит, что нельзя ошибаться.
Зикко стоит перед отцом и смотрит в землю.
— Не могу, — повторяет.
Рокко чувствует: если еще один камень ляжет на сердце, оно не выдержит. Лучше б ты ушел тогда, с теми двумя. Лучше б мать родила тебя мертвым. Чтоб не давал ты мне такой надежды.
— Ты хоть понимаешь, — говорит он, — что Королю Убийц не отказывают?
Сын кивает. Хоть денег и не взял — но заказ принял. И по всем законам обязан выполнить.
Так нет.
Кишка тонка.
Видно, навел кто-то порчу на Рокко Черроне. Слабое у него оказалось семя.
— Понимаешь, что он с тобой сделает?
— Ага, — говорит Зикко. Сглатывает. — Пусть… лучше со мной.
— А о чем ты думал, — через силу уже спрашивает Рокко, — когда соглашался?
В ответ Зикко валится на колени — резко, будто его ударили по ногам. И молчит.
— Трус, — говорит Рокко. Старших сыновей он в душе не проклял, а этого — готов. И пока черное, вязкое не сорвалось, не обрушилось на Зикко, он цедит торопливо:
— Убирайся. Пускай с тобой будет, что будет. Я тебе больше не отец. У тебя здесь нет семьи. Убирайся.
Зикко поднимается, отряхивает колени. Дергает концы шейного платка.
— Как скажешь, — на губах начинает лепиться слово «папа», и мальчик прикусывает губу. — Как скажешь.
Он поворачивается и уходит. Старый Рокко возвращается в дом, где в верхней спальне теперь будут пустовать все три кровати.
Взвыл бы, да стыдно.
Вставать с похмелья трудно. Внутри все колышет и волнуется, будто желудок превратился в трюм захваченного штормом корабля. Таким Рокко поднимается наутро; хватается за спинку кровати, голоса едва хватает позвать слуг и попросить воды.
Лучше б, думает он, глядя на отразившегося в тазу косматого красноглазого старика, и вовсе не вставать. Незачем теперь.
Вдруг — рябью по воде — кто-то чужой в комнате. Рокко оборачивается — нет, не чужой. Будто снова глядит на свое отражение, в собственные глаза, помолодевшие вдруг на целую жизнь. Невольно замечает — ведь вошел, поганец, так, что я не заметил…
Зикко говорит:
— Ты сам сказал, что больше мне не отец.
В руке у него — тот самый первый в его жизни кинжал. Рокко-то думал, сын давно уж затерял его, как за детьми водится. Вот, значит, что потребовал Король Убийц.
В онесте сказано — нельзя выполнять заказы на собственную семью.
А ведь он уж совсем разочаровался! Хорошо умирать с легким сердцем, еще лучше — когда сердце наполнено гордостью, как у Рокко. Умница его мальчик, умней своего старика, все сделал правильно. И застал его, стреляного воробья, в таком беззащитном положении. Конечно, захоти Рокко по-настоящему, отвлек бы, успел бы дотянуться до стилета, что всегда под подушкой. Но ведь — сын. Один раз можно смухлевать, и Король Убийц посмотрит сквозь пальцы.
Зикко глядит на отца и улыбается. Не обычной своей улыбкой, что зияет пустотой, будто ухмылка Тихого Всадника, а совсем, как в детстве — когда оседлал деревянную лошадку и радовался: «Смотри, папа! Смотри, как у меня получается!».
И старый Черроне кивает ободряюще — получается, малыш, — но сказать: «Я тобой горжусь, сынок» у него уже не выходит.
Зикко рывком притискивает к себе отца, и его взгляд погружается в отцовский, отражая его точно, как капля воды могла бы отразить другую. Рокко спокойно оставляет этот мир сыну — тот не осрамил его перед Королем убийц. Зикко понесет дальше их почти забытое искусство, он сохранил честь семьи. Честь — нечто куда более долговечное и дорогое, чем жизнь.
Кому это знать, как не Черроне.
© И. Голдин, 2008