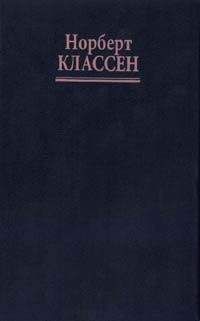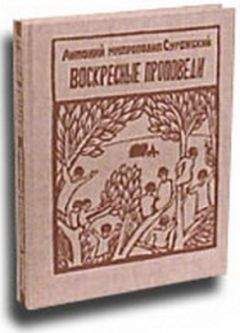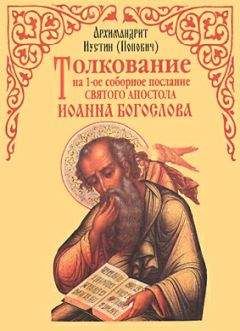Юрий Нестеренко - Удовольствие Дона Хуана
-Сын мой, - строго произнес я, присаживаясь у постели больного и делая знак хозяину удалиться, - ты готовишься предстать пред Господом нашим, и надлежит тебе обратить помыслы...
-Прошу вас, не называйте меня сыном, - перебил он. -Вы, как мне кажется, не старше меня, и такое обращение представляется мне смешным.
-Но разве вы не понимаете, что мой сан дает мне право... - я почувствовал более удивление, чем гнев, слыша столь неподобающие речи.
-Давайте оставим в покое ваш сан. По правде говоря, я всегда был плохим христианином, и не собираюсь менять это сейчас.
-Как раз сейчас вы имеете последний шанс покаяться и обратиться к милосердию Гос... - с жаром начал я, но сей грешник вновь не пожелал меня дослушать.
-Я сказал - оставим это. Довольно я выслушал таких призывов за свою жизнь, чтобы внимать им еще и перед смертью.
-Но зачем же вы пригласили священника? - спросил я, признаюсь, не без растерянности.
-Я не приглашал священника. Я просил нашего милейшего хозяина позвать кого-нибудь из соседей. Но в трактире нет других постояльцев, кроме вас и меня. Впрочем, если мои слова кажутся вам оскорбительными, вы, конечно, можете уйти.
Я все еще лелеял надежду обратить этого заблудшего к покаянию, но понял, что действовать тут надо не напрямик.
-Хорошо, если вы не желаете исповедоваться, то что вам, в таком случае, угодно?
-Просто поговорить.
-Что ж, давайте просто поговорим. Если вы не желаете, чтобы я называл вас сыном, то как в таком случае мне вас называть?
-Зовите меня "дон Хуан". Полагаю, - добавил он после краткой паузы, - вам знакомо это имя.
-В Испании многие его носят, - ответил я. -Даже мой дядя, дон Хуан Эммануэль...
-Носят многие, - ответил он самоводольным тоном, - но не многим удалось его прославить.
-Смотря что называть славой, - заметил я. -Я, конечно, слышал о неком безбожнике и развратнике, если вы намекаете на него, но не думал, что он еще жив.
-Как видите, жив, - усмехнулся он, - впрочем, теперь уже ненадолго.
В тусклом свете свечи я повнимательнее всмотрелся в его лицо. Несмотря на следы, оставленные возрастом, распутной жизнью и болезнью, оно все еще было красиво. Тонкий породистый нос, аккуратно выстриженные усы и бородка, большие черные глаза, высокий лоб, более достойный мыслителя, чем повесы...
-Вы совершаете большую ошибку, отказываясь от исповеди, - сказал я. -И на то, чтобы передумать, у вас мало времени. Ваша исповедь должна быть долгой.
-Вам бы очень хотелось ее услышать, не так ли? - вновь усмехнулся он.
-Мне хотелось бы спасти вашу душу, это мой долг как священника, - строго возразил я. - Но если вы спрашиваете, интересна ли мне история ваших похождений, как человеку, то она мне нисколько не интересна. Грех кажется привлекательным лишь самому грешнику. На самом же деле он попросту скучен. Чем была ваша жизнь, как не бесконечным повторением одного и того же действия, доступного не только глупейшим из людей, но даже низшим из животных?
-Скажите, вы всегда соблюдали целибат? - спросил он с любопытством.
-Да, - ответил я с достоинством. - И это далеко не так трудно, как полагают распутники. Собственно, это вообще не трудно. Не буду утверждать, что в ранней юности меня никогда не посещали греховные мысли, но я был тверд на своем пути, и вскоре они совершенно исчезли.
-И на смертном одре вы не пожалеете, что ни разу не изведали этого удовольствия?
-Напротив, я буду рад, что уберег от скверны и тело, и душу.
-Вы не оставили на земле детей.
-Что с того? Вы оставили их во множестве, но ни один из них не носит вашу фамилию.
-Что ж, в ваших словах есть свой резон, - согласился он. -И все-таки я прожил насыщенную жизнь.
-Вы прожили пустую жизнь. Всю свою жизнь вы страдали от внутренней пустоты и тщетно силились заполнить ее внешними... впечатлениями. Но услады тела не могут заполнить бездонную дыру в душе.
-По-вашему, меня интересовали только услады тела? - он, похоже, почувствовал себя задетым.
-Что же еще? Разве вы не сделали смыслом всей своей жизни служение удовольствиям?
-Пусть удовольствиям; но многое ли вы знаете о моих удовольствиях, чтобы судить столь поспешно?
-Что уж тут знать... Для того, чтобы понять всю мерзость греха, совсем не обязательно впасть в него самому. Напротив, со стороны она видна куда нагляднее...
-Да полноте, речь не об этом. Вы думаете, что главным для меня было совокупление? Будь это так, я не стал бы соблазнять самых утонченных дам Испании. Куда проще и дешевле получить это от любой девки...
-Ну да, конечно - вам мало было блуда как такового, вы еще тешили свою гордыню победами над знатными женщинами.
-Перестаньте гадать, все равно вам не добраться до истины. Мое главное удовольствие было не в этом.
Он замолчал, явно желая, чтобы я спросил его, в чем. Но я тоже молчал, желая усмирить его гордыню. Однако вспышка молнии и раскат грома напомнили мне, что минуты его истекают, и я должен поспешить, если надеюсь спасти его душу.
-В чем же? - спросил я.
Он улыбнулся своей маленькой победе.
-Хорошо, я расскажу вам. Открою секрет дона Хуана. Вам, должно быть, приходилось слышать исповеди несчастных влюбленных?
-Тайна открытого на исповеди...
-Я не спрашиваю вас ни о каких тайнах. Считайте это риторическим вопросом. Своим величайшим счастьем, заставляющим их забывать и о боге, и обо всем остальном, эти влюбленные считают взаимность. А величайшим горем - следующий за этим счастьем разрыв. Для них он даже более болезненен, чем холодность, проявляемая с самого начала и не дающая пищи для ложных надежд... не так ли? Особенно когда он следует внезапно.
-Ну... пожалуй, что так.
-Так вот. Влюбленные - идиоты. Это, впрочем, азбучная истина, но я имею в виду несколько иной ее аспект. Они идиоты, потому что не понимают того, что понял я. Самое лучшее, самое изысканное, самое утонченное удовольствие дона Хуана... то, из-за которого я столь часто менял женщин и никогда не возвращался к прежним, хотя, возможно, многие были бы непрочь... это именно разрыв!
-Хотите сказать, что вам доставляло наслаждение бросать соблазненных вами женщин и тешиться их страданиями?
-Нет-нет! - рассмеялся он. -Все не так примитивно. Вам хочется представлять дона Хуана бессердечным чудовищем, но это не так. На самом деле я любил этих женщин. Любил каждую из них, и пользовался взаимностью. И чем сильнее была любовь - тем острее было наслажденье, когда я сам, по своей воле, разрушал ее. Разрушал сознательно, обдуманно, ни в коем случае не мгновенно - но с каждым шагом, с каждым словом вколачивая гвозди в ее гроб, упиваясь необратимостью своих действий. Да, именно так - оставляй я хоть один шанс на примирение из тысячи, все не имело бы смысла. Финал наступал поразному... иногда бурные сцены, пару раз на меня даже бросались с кинжалом, иногда - светлая, тихая печаль, иногда - ледяная гордость... Бывало, что я и сам плакал, когда писал последнее письмо, исполненное гнева и презрения - но тем острее было наслаждение, лежащее уже за той гранью, где боль и упоение переходят друг в друга... Отчасти это сродни чувству, какое испытываешь, стоя на краю пропасти и желая прыгнуть вниз - но тут оно еще сильнее. Чувство полета, чувство падения... Романтики, утверждающие, что любовь сильнее смерти, в чем-то правы - в том смысле, что разрушать любовь приятнее, чем жизнь. Я не раз дрался на дуэлях и могу сравнивать.