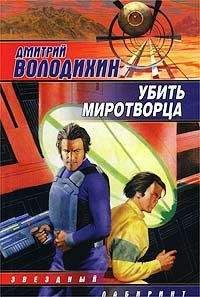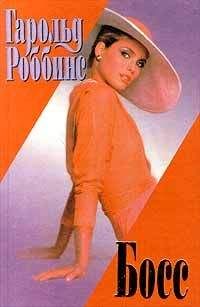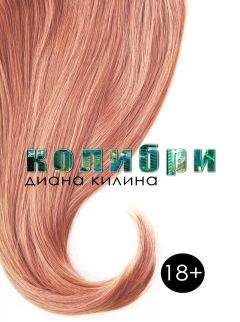Дмитрий Стрешнев - Профессор, поправьте очки!
Подъезжая к Дому Искусств, Сева Чикильдеев наслаждался плакатом, натянутым над полноводной магистралью, несущей автомобильный поток: "Антик-шоу!". Такой же плакат, но поменьше, висел между колоннами над входом в Дом. В конце широкой лестницы, украшающей фасад, торжественно блестели восемь стеклянных дверей, из которых, согласно национальной традиции, для входа посетителей открывалась одна. Зато багаж в аэропорту у нас подают сразу по двум транспортерам, поэтому, если у вас больше одного багажного места, вы будете прыгать, как тушканчик. Но это так, к слову, ведь сейчас Чикильдеев торопился не в аэропорт и даже не к обманчивым парадным дверям, а за угол – к невзрачному служебному входу. Через час должен был начаться заезд клиентов на выставку, занимавшую самый большой зал чудесного дома. До этого момента надо было нанести визит всем службам, имевшим отношение к обеспечению выставки, а также успеть подписать контракт с охраной и уломать администратора ресторана развернуть кафе с напитками в северо-восточном углу зала. В блокноте у Чикильдеева был список из 58 пунктов. В общем, обычная работа.
Особенностью работы любого административного сотрудника является то, что надо уметь со всеми много и мило болтать и при этом не сказать ничего лишнего. Человеку несведущему было бы трудно даже представить, какого совершенства достигла в Доме Искусств система доносительства. Если бы Чикильдеев, скажем, просто пукнул, заворачивая из одного пустого коридора в другой, то через час все были бы не только в курсе случившегося, но даже знали бы тональность: си-бемоль-мажор. А если бы кого-нибудь подвел слух и он не смог определить: си или ля, то долго после этого считался бы злостным укрывателем информации. Поначалу Чикильдеев пытался уловить какие-то здоровые тенденции в этом всеобщем доносительстве – так сказать, нащупать живой пульс интриги, но скоро с изумлением убедился, что работники Дома Искусств совершают это просто потому, что не могут существовать иначе.
На вершине пирамиды находился главный администратор Дома Арнольд Карпович Спичкис, в кабинет которого стекались ручейки информации. На ее основе здесь вершились расследования, устраивались очные ставки и публичные порки. Случайно проходившие мимо в такие моменты сотрудники Дома непроизвольно втягивали головы в плечи (лет 80 назад в подобных случаях положено было еще и креститься), слыша разлетающиеся по коридорам страшные крики: "Уволю!.. Зарплаты лишу!.." Но воспринимали происходящее с покорностью, то ли оттого, что все эти "уволю" и "лишу" никак не осуществлялись, то ли оттого, что живем на Среднерусской возвышенности, а потому и характер такой: средней возвышенности.
Сева Чикильдеев углубился в полумрак залов, последние минуты отдыхающих от публики. В полусказочной тишине картины на стенах казались еще более загадочными, чем их задумали создатели. При выходе из зала "Ц" Сева невольно отвлекся на полотно, изображавшее, как ему показалось, глазастое щупальце, плачущее квадратными слезами. В этот момент приятный баритон с бархатным оттенком киногероя произнес сзади:
– -Чья это, интересно, мазня так взволновала вас?
Баритон, разумеется, принадлежал главному куратору отдела коммерческих выставок Геннадию Александровичу Забиженскому. Седые бачки, тщательность в одежде и манера держаться могли бы любого в первый момент навести на мысль, что перед ним обрусевший английский лорд, но любовь к резонерству очень быстро снимала всякое подозрение в лордстве.
– -Так чья же мазня взволновала вас столь чрезвычайно?-повторил он, и Чикильдееву показалось, что полотно, когда к нему наклонилась великолепная голова Геннадия Александровича, затрепетало, словно распятая на столе вивисектора лягушка.
– -А! Это же Бальзамов. "Антропоморфия № 9". Что ж, выбор неплох. Открывая экспозицию, я, как сейчас помню, сказал: "Автор – талант! И пытаться это скрыть было бы ребячеством или малодушием!" Да-с! Удивительный дегенерат этот Бальзамов, доложу вам. Под стать своим картинам.
– -Геннадий Александрович, такие оценки… будучи работником Дома…
– -Милейший Всеволод Тимофеевич, разве я еще не сообщал вам, что ненавижу искусство?
– -А зачем же вы… работаете, собственно…
– -Здесь? Исключительно для того, чтобы закрепить чувство отвращения. Как тот человек, который не отдавал долги, чтобы укрепить чувство долга.
Действительно, подумал Сева, живи я среди всего этого, давно бы сбрендил. Вслух он, однако, сказал:
– -Нет, всё-таки, Геннадий Александрович, искусство…
– -Знаю, знаю, растет, как капуста,-Забиженский взял его под локоть и легко увлекал в прохладный полумрак залов, а голос его плыл шелестящей волной между колоннами:
– -При виде всех этих инсталляций, композиций, ассамбляжей (извиняюсь за выражение) я всегда думаю: а он умеет хотя бы собачку нарисовать? Но я верю специалистам, которые мне говорят: вот это искусство, а вот это – нет. Поэтому я серьезно слушаю – и даже сам выучил – слова: продвинутое искусство, программные галереи, инновационный проект, буквальная цитата из… Не будем же мы спорить с биржевыми котировками! Если абсурд сегодня имеет высокий рейтинг, значит в этом существует какой-то смысл…
Пройдя сквозь зал "К", Чикильдеев с Забиженским повернули за угол, очутившись в зале "Ж", и в противоположном его конце увидели большое квадратное солнце. Это был проход в зал "Б", откуда явственно доносилось бормотание электрических шуруповертов и повизгивание дрелей, временами заглушаемое плебейским стуком молотка.
В огромном помещении, освещенном рядами неоновых ламп, был построен из больших белых щитов как бы город с улицами и переулками. Ровные ряды уходили в перспективу, выглядывая друг из-за друга, как будто носы кораблей в гавани. Повсюду шевелились монтажники – большие деловитые насекомые в синих комбинезонах. Возведенный ими лабиринт, судя по всему, был хорошо известен Чикильдееву, который не сбавил шага; Забиженский следовал позади, продолжая говорить. Впрочем, его голос воспринимался как вполне естественное явление, вроде зудения какого-то агрегата. Внезапно в воздухе возникло неясное беспокойство, и Сева тут же догадался, в чем причина: привычный звук прекратился. Обернувшись, он обнаружил, что Геннадий Александрович больше не жужжит и не идет следом, а стоит в десяти шагах позади, разглядывая нечто у себя под ногами с такой скорбью и таким отчаянием на лице, что у Чикильдеева сердце два раза стукнуло не в такт. Пока Сева приближался, Забиженский наклонился и поднял нечто с таким трепетом, словно совершал языческий ритуал.
– -Вы меня подставляете!-сказал он внезапно треснувшим голосом.