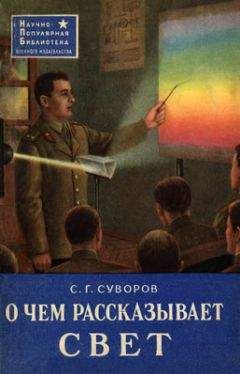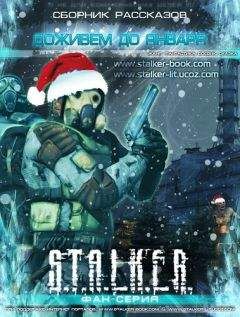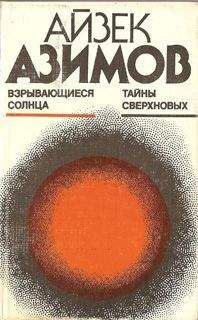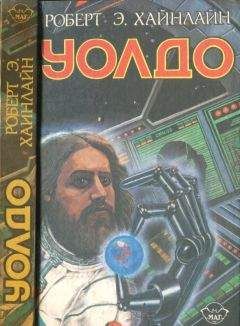Жан Роблес - Память риса
В переносном смысле говорится, что правда поражает тех, кто ее открывает, и видно что-то есть в этом высказывании, ибо при чтении этих зерен я чувствовал, как меня охватывает пламя. Все мои вопросы наконец-то нашли окончательный ответ, все загадки исчезали перед сияющей действительностью, не допускавшей сомнений. В сравнении с "Памятью риса" самые уважаемые из священных книг (Ветхий Завет, Евангелия, Коран и даже учение Будды, с которым я ознакомился в Индии) внезапно показали свое истинное лицо: в них нет никакого Бога, никакого сияния, которое заставило бы зажмурить глаза. Совершенно неожиданно я распознавал в них банальный знак человеческих беспокойств, обмана и вымысла. В них говорится о рае и морали, о награде, о каре, об аскезе и преданности божьему делу... Печальные обещания, пустые призывы, всю бессмыслицу которых показывает лишь "Память риса". Во время этого чтения меня охватила абсолютная уверенность в себе, чувство свободы, силы, вдохновение существа, которое все на свете, включая сюда и божественность, устанавливает в театре Космоса на истинное место. Это продолжительное откровение, знание, о которой могу совершенно неуклюже сказать, что оно не имеет ничего общего с тем, что обычно именуется знанием, возрастало по мере прочтения в направлении, которого я и представить не мог...
Не удовлетворясь одним только откровением о происхождении и окончательном предназначении Вселенной, "Память риса" стремилась к невообразимым вершинам, и каждая последовательность зерен добавляла следующий виток к чудесной спирали знания.
Столько оговорок, столько пустых и необдуманных аналогий (я бы сказал, взятых напрокат из мистических текстов), которые, к сожалению, лишь искажают истину. Читатель имел бы право обвинить меня в том, что я не доказываю ни одного из своих утверждений, либо усомниться в настолько трудной для выражения действительности. Я осознаю, что мои попытки весьма жалки, но это отсутствие точности, как увидим впоследствии, не зависело от моей воли, и я первый сожалею об этом...
И действительно, как только закончил я чтение, то сразу же понял удивительный факт: как только поднимал глаза от текста, то сразу же не мог ничего вспомнить. Понятное дело, достаточно лишь было взять лупу и вновь обратиться к рисовому зернышку, и сразу же вспоминалось все, прочитанное перед тем, но самый обыкновенный взгляд на Джованну, момент невнимания или, тем более, пара часов сна, и я тут же забывал прочитанные строки. Во мне оставалось лишь невыносимое, больное чувство потерянного рая, как после чудесного сна, которого не помнишь после пробуждения.
Не ожидая конца чтения, для чего навряд ли хватило бы всей жизни ("Память риса" содержала пять тысяч зерен, то есть, соответствовала библиотеке из четырех тысяч девятьсот девяноста девяти томов, в каждом по пять тысяч страниц), я решил нарушить слово, данное учителю Шаню, и начал постепенно переводить текст. Но это тоже оказалось невозможным: по вышеуказанным причинам, а еще потому, что напрасно было стараться передать по-английски то, что превышало язык; невозможно было найти чудо письма и значений, позволяющие столько различных толкований. Но я быстро понял, поскольку это было явно обозначено в тексте, что смогу запомнить его лишь пройдя все уроки, и решил посвятить этому каждую свободную минуту.
Таким вот образом прошло два года совершеннейшего счастья, какое только можно себе представить. Я встаю рано утром и работаю до позднего вечера, прерываясь лишь затем, чтобы поесть и поспать. Джованна привыкла пребывать со мной в комнате, где я занимаюсь своими исследованиями. Она сидит у окна, безразличная ко всему, что не является ее гребешком или же едой, которую в этот момент подносит ко рту. И хоть не раз чувствовал я печаль Пигмалиона, желания которого исполнились только наполовину, вид ее божественной красоты доставляет мне удовольствие. Когда наступает ночь, я прячу рисовые зерна в шкаф и ящичек с перегородками, в котором их раскладываю, потом ложусь в постель, мечтая лишь о том мгновении, когда вместе с чтением найду смысл Пути. Но с каждым днем все сильнее начинаю я понимать срочность своих трудов и тяготеющую на мне ответственность. Меня мучит один вопрос, которого никак нельзя отогнать: что случится со мной, когда мне удастся прочитать все возможные версии "Памяти"? Этим вечером я поверяю пергаменту ужасно опасное безумие, но разве не самого ли Бога пересеиваю я между неуклюжими пальцами?...
9 июля года 1348
Шестнадцать месяцев минуло с тех пор, как я написал предыдущий текст, шестнадцать месяцев счастья, невысказанных обещаний, сегодня закончившихся ничем не заменимой утратой. Уже несколько недель безумствует чума вместе с голодом и нуждой, которые ведет она за собой, а я ни о чем не знал, ничего не предчувствовал, настолько чтение отгородило меня от всего происходящего вокруг!
Сегодня утром, после пробуждения, я открыл шкаф, чтобы взять свою "книгу". На полке лежал кожаный мешочек и ящичек с перегородками, но они были пусты... Чудовищное предчувствие заставило меня побежать в комнату, где обычно я работал. Джованна сидела на своем обычном месте. У нее на коленях стояла фарфоровая пиала, где лежало забытое, последнее зернышко "Памяти риса". Даже не глянув на девушку, я кинулся, чтобы спасти последний остаток своих надежд. Катастрофа свершилась! На поверхности зерна, помытого и набухшего при варке, от всей мудрости мира остался всего лишь один знак, от жестокой иронии которого глаза наполнились слезами: "мо", то есть "ничего"... Утраченный текст. Затертый удивительный след, что вел меня, навечно замурованный выход из лабиринта! Я резко вскочил, готовый в отчаянии обрушить град ударов на невинное создание, что стала причиной всего этого несчастья...
Когда я приблизился, Джованна повернулась ко мне. Первые лучи солнца загорелись в ее волосах. Ее глаза встретились с моими и задержались на них впервые за столько времени. И впервые услыхал я грохот телеги вместе с голосом стражника, приказывающего жителям, чтобы те выносили своих умерших.
По мнению профессора Анакарсио ди Баттиста, который, как обычно, никак не вспомнит, где встречал это упоминание, одна из тосканских поэм XIV века рассказывает о мужчине, который последние годы жизни провел с девушкой, не до конца нормальной, но красивой будто сама Мадонна. Их можно было видеть в окошке домика на Понте Веккио: она медленно и тщательно расчесывала волосы, в то время как он неслышимо бормотал какие-то слова, глядя в ее глаза. "И было, - профессор заверяет, что цитирует последнюю строку дословно, - ужасно жалко видеть такую чудную даму и такого ученого молодого человека, сгорающих в таком блаженном безрассудстве..."