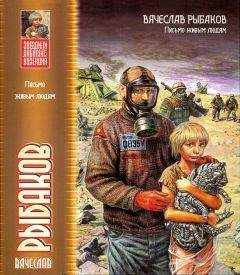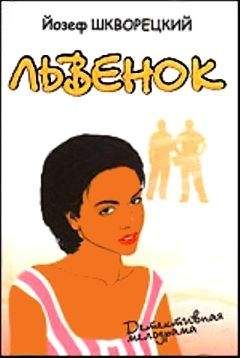Вячеслав Рыбаков - Фантастика - реальные бои на реальных фронтах
В реальности все это отнюдь не так забавно. В рецензии на один из первых моих рассказов "Все так сложно", опубликованном впоследствии в ленинградском сборнике "Синяя дорога" (традиционнейший сюжет с космосом и пришельцами), говорилось, например, что автор -- ни много ни мало! -подрывает ленинское учение о войнах справедливых и несправедливых и издевается над бессмертным подвигом Александра Матросова. Легко понять, что во времена несколько более крутые, чем 1981 год, после такого отзыва 27-летний начинающий автор просто исчез бы -- и не только из литературы.
В 1988 г. в Лениздате вышел очередной сборник фантастики. В ту пору, когда он составлялся в первый раз -- еще Е.Брандисом, умершим в 1985 г. -- для него был предложен мой рассказ "Пробный шар" ("Знание-сила", 1983, Nо 8). Рассказ был отвергнут. На обороте последней страницы я обнаружил неизвестно кем начертанное резюме, где рекомендовалось дать автору шанс переписать рассказ и связно изложить интересную историю исследования Шара. Неведомый рецензент требовал написать новый рассказ, причем уже не о человеческих, а о технических проблемах, да еще желательно остросюжетный. Однако совсем красноречивы были замечания на полях. Самого гротескного удостоился абзац, где упоминается друг главного героя Марат Блейхман, погибший несколько лет назад при исследовании загадочного Шара. Тот же аноним, не менее загадочный, чем космический Шар, написал: "Что за странная фамилия?!" Имена Соцеро, Веспасиан, Гульчехра прошли без помех, а тут -- всплеск эмоций. Точь-в-точь по анекдоту: сидят два кадровика, один перебирает личные дела и вдруг говорит другому: "Глянь, глянь, Голопопенко, яка фамилия смешная: Рабинович..."
Одновременно с первыми вариантами сценария "Писем мертвого человека" я написал повесть "Первый день спасения" ("Даугава", 1986, NN 10-12), в которую вошли элементы отвергнутых режиссерем эпизодов и которая, в свою очередь, очень помогла мне при дальнейшей работе над сценарием. Когда в начале 1986г она в составе авторской книги была предложена в тот же Лениздат, редакция художественной литературы охарактеризовала ее так: "...напоминает кальку с американских, английских и бог знает еще каких фантастических произведений. Персонажи... даже если они живут двести-триста лет спустя после нас,напоминают то американских суперменов, то фашиствующих молодчиков, то униженных, забитых, загнанных людей, а то и просто подонков. Такое впечатление, что все эти ужасы, неурядицы, катастрофы, нашествия созданы лишь для того, чтобы напугать читателя. Разумного человеческого общества, о котором всегда мечтали лучшие умы человечества, в Вашей рукописи нет и в помине...Конечно, Вы можете сказать, что этими ужасами предупреждаете читателя о тех катаклизмах, которые произойдут, если в мире воцарит зло [в тексте так -- В.Р.]. Но вся беда в том, что социальной основы этого зла не видно, как не видно, к сожалению, какие социальные силы могут быть противопоставлены этому злу. Нарочитая зашифрованность..., нагромождение ужасов, вразумительно не объясняемых, заставляет вспомнить произведения Ф.Кафки и современных его последователей. Вероятно, так можно писать, однако нужно ли? Читать повесть "Первый день спасения" тягостно. ...Недоговоренность создает иллюзию многозначительности. Вы как будто нарочно не желаете изложить свое авторское кредо (в любой форме), чтобы было ясно, за что воюет автор, что ему нравится, против чего возражает".
Заметно, насколько поспешно нанизаны один на другой все ругательные редакционные штампы. Ни тот, кто их пишет, ни тот, кто их затем читает, не воспринимает их осмысленно, информационно. Совершается некий социальный ритуал, причем, судя по обилию ритуальных движений (фашисты,американские супермены, подонки, лучшие умы человечества, социальная основа, Кафка, ложная многозначительность, отсутствие авторской позиции), совершается он безоговорочно и означает лишь одно: "Не высовывайся! Пшел вон!" Пытаться вычитать из него реальное отношение к достоинствам и недостаткам рукописи -- тщетная работа. Но, с другой стороны, пытаться опротестовать такое клеймо -- просто негде. Рецензия. Умойся и живи дальше. Твори.
После же публикации оказывается, что вещь неплоха. Всего лишь через четыре месяца после выхода в "Даугаве" она в родном моем городе принесла мне звание лауреата творческого смотра "Молодость. Мастерство. Современность", как бы предвосхитившее в миниатюре звание лауреата Госпремии РСФСР, полученное полугодом позже уже за фильм. Но после публикации...
Примеры относятся, конечно, к периоду, когда литература была, как и многие другие сферы, лишь угодьем угодных. Но вот ситуации перестроечных времен. Повесть "Доверие" ("Урал", 1989, N 1) была предложена в ленинградский "Детгиз" и отвергнута им. Насколько мне известно, инкриминировалось ей всего лишь то, что автор, вражина такая, не верит в перестройку и силу гласности.
Знакомая песня, правда? Подрывает ленинское учение о войнах справедливых и несправедливых...
Дело, видимо, в том, что гипертрофированное представление владеющих издательскими площадками чиновников о своей роли в мироздании оборачивается гипертрофированными, почти параноидальными страхами, усугубляемыми постоянной боязнью того, что любой промах будет раздут до размеров политической ошибки всяким, кто метит на "мое" место. Порой доходит до трагикомедий. Смешной маленький рассказ пожилого ленинградского фантаста, где в одном из эпизодов герой попадает в гарем роботов, "задробили" из опасения, что рассказ поссорит нашу Родину с мусульманским миром. Боевик моего друга, где симпатичного и мужественного "маленького" человека насильно заставляют голосовать за хоть какого-нибудь из кандидатов ничем не различающихся партий (страна не названа, и американских реалий нет), "завернули", поскольку он вышел бы в год президентских выборов в Америке и, по мнению издательства, Конгресс вкупе с новой администрацией, коллективно прочитав этот рассказ, усмотрели бы намек в свой адрес и очень бы на СССР обиделись...
Мы сами себя посадили на цепь. Нацеленное на воспитание людей стремление сделать каждое публикуемое слово "нашим", ставшее затем жестким администрированием, играет теперь злую шутку: вселяет теперь в ответственных товарищей опасение, будто всякое публикуемое слово и воспринимается как исключительно "наше", то есть чуть ли не как ответственная точка зрения ЦК по данному вопросу (например, по вопросу гаремов у роботов...). Понятно, что в таких условиях даже честный редактор начинает нервничать при виде первой же нестандартно поставленной запятой. Он-то думает, что читатель истолкует ее как неявно происходящее изменение генеральной линии партии -- а, поскольку изменения нет, партия ему за подобную провокацию всыплет по первое число (либо кто-нибудь из ближних постарается, чтобы всыпала).