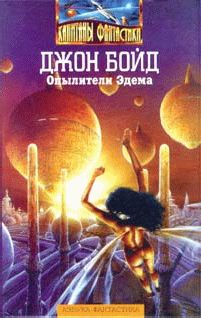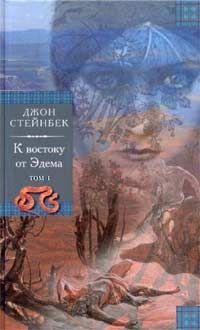Джон Бойд - Опылители Эдема
Уважающие себя студенты математики редко посещают галереи искусств; но здесь манила войти сама эспланада, дугой поднимавшаяся от автостоянки к тому месту на утесе, где стояло вознесенное на шестидесятиметровую высоту над Тихим океаном здание галереи, напомнившее Халдейну взлетающую чайку.
День был приятным. Ровный океанский бриз смягчал жару солнечного дня. Веранда здания господствовала над океаном, и с нее открывался широкий вид на морской простор в северо-западном направлении. Он посмотрел на часы и решил, что время в запасе есть.
Припарковав машину, он направился к входу и увидел девушку. У нее был широкий шаг, и при каждом шаге бедра слегка покачивались, как если бы таз играл роль некоего эксцентрика, выполняющего замысловатое движение вокруг собственной оси. Ему потребовалось всего несколько микросекунд, чтобы перевести эстетику этого движения на язык математики. Пролетарские девушки использовали подобное покачивание бедрами для соблазна, но на этой девушке была куртка и юбка в складку, какие носят профессионалы.
Он пошел медленнее, чтобы держаться на несколько шагов позади нее, пока она проходила через входные двери в ротонду; войдя, девушка остановилась перед картиной. Торопясь ознакомиться с ее фронтальной геометрией, Халдейн прошел между ней и картиной, ненавязчиво, но внимательно изучая девушку, и остановился рядом. Он разглядел каштановые волосы, отражающие свет с истинно художественным эффектом, твердый, но округлый подбородок, правильными дугами очерченные брови над светло-карими глазами, длинную шею, высокие приподнятые груди, совершенно плоский живот и талию, плавно переходящую в бедра, напоминающие удлиненную букву V.
Внезапно она отвела глаза от картины и поймала его взгляд. С притворно вопрошающим видом он протянул руку к картине:
— Что это?
В свойственной профессионалам манере она ответила, глядя не на него, а сквозь него:
— Здесь изображено движение.
Он бросил на холст взгляд, который, как он надеялся, должен был показаться практичным, и сказал:
— Что ж, кажется, эти линии действительно перемещаются.
С ее губ слетали чеканные слова:
— Изображение вертится. У меня от него даже мутит в желудке.
Он посмотрел на трафаретную надпись «А-7» на ее куртке. «А» означает, что она студентка искусствоведения, но он не знал, что означает седьмой подкласс, может быть, критик-искусствовед.
— Я слышал, что чай успокаивает морскую болезнь. Может быть, я смогу оказать вам первую помощь, угостив чашкой чая?
Ее лицо продолжало оставаться беспристрастным, но глаза теперь смотрели на него.
— Обычно вы пристаете к женщинам в галереях искусств?
— Как правило, я работаю в церквах, но сегодня суббота.
За ее маской засмеялись глаза.
— Можете угостить меня чашкой чая, если вам угодно тратиться на внекатегорийную девственницу.
— Суббота — мой день для девственниц.
Он повел девушку на веранду и выбрал столик около перил, откуда они могли видеть прибой у самого подножья утеса. Он усадил ее и, щелчком пальцев подзывая официантку, представился:
— Я — Халдейн IV, М-5, 138 270, 3/10/46.
— Хиликс, А-7, 148 361, 13/15/47.
— Когда мы разговорились, я сразу понял, что вы — шведка, но что означает «семь»?
— Поэзию.
— Вы первая, кого я встретил из этой категории.
— Нас немного, — сказала она, когда официантка подкатила к их столику поднос. — Сахар и сливки?
— Один кусочек, пожалуйста, и немного сливок… Как трагично, что таких, как вы, мало, — сказал он, любуясь плавной грацией ее руки и движением запястья, пока она опускала в его чашку сахар и добавляла сливки.
— Приятно слышать от математика подобные речи о поэзии.
— Я имел в виду не саму профессию. Мне жаль, что у вас такой узкий выбор парней. Вероятно, вы кончите с каким-нибудь гладковолосым дружком-бардом, который будет оставлять вас одну на лугу, отправляясь декламировать вирши такому же, как сам, худосочному лютику.
— Гражданин, вы атавистичны, — упрекнула она и, понизив голос на целую октаву, сказала: — Но мне симпатичны примитивные эмоции. Моя специальность — романтическая поэзия восемнадцатого века… Известно ли вам, что до Великого Голода существовал культ оплодотворителей, называвшихся «любовниками», и что одним из величайших из них был поэт лорд Байрон?
— Я познакомлюсь с ним поближе.
— Смотрите, чтобы ваша матушка не застала вас за чтением этого поэта.
— Это ей не удастся. Она погибла, случайно выпав из окна.
— О, простите меня. Я счастливее. У меня приемные родители, но оба живы и безумно меня любят. Родные погибли при аварии ракеты… Однако вы удивили меня, сказав, что так мало знаете о моей категории. Один из ваших великих математиков, М-5, если я правильно запомнила, писал стихи, к которым лично я никогда не питала интереса, но интеллигенция, кажется, их читает. Может быть, вы слышали о Фэрвезере I, человеке, который сконструировал Папу?[1]
— Гражданка, вы хотите убедить меня в том, что Фэрвезер I занимался этой… писал стихи? — Он смотрел на нее с неподдельным изумлением.
— Не стоит так удивляться, Халдейн. В конце концов трата времени на песенки — это не праздное времяпрепровождение с девицей.
Эти слова его шокировали, даже ужаснули, но и приятно поразили. Он не был уверен, что правильно понял смысл, вложенный ею в слово «девица», но он умел интерполировать и понял, что впервые в жизни слышит остроумное замечание от женщины. И более того, он первый раз в жизни слушал женщину-профессионалку не из числа общественниц дома развлечений, так приятно искрящуюся остроумием, да еще и с таким хорошеньким фасадом.
Халдейн не сомневался, что корень квадратный из минус единицы в этой девушке есть.
— Мне ли не изумляться, — сказал он, пряча свое мимолетное смущение за более глубокой сконфуженностью, — моя область — математика Фэрвезера. Я изучал работы этого человека еще в старших классах средней школы. Сегодня я приехал сюда, чтобы взглянуть на модель лазерной установки, которую он изобрел, в том музее напротив через дорогу. Я знаю, что у него был самый изобретательный из когда-либо существовавших умов, я, конечно, не имею в виду ни вас, ни себя, но ни один из моих профессоров, ни один учитель, ни один собрат-студент, ни даже мой отец никогда и словом не обмолвились о том, что он написал хотя бы одну поэтическую строку. До самого последнего мгновения я и не подозревал, что являюсь самым никудышным в мире знатоком Фэрвезера I, так что вам придется простить меня, если я выгляжу не вполне в своей тарелке.