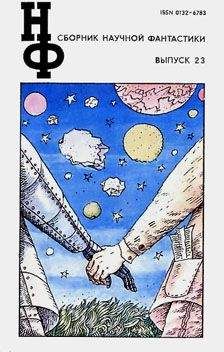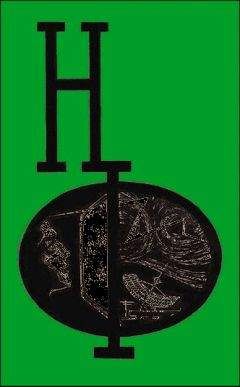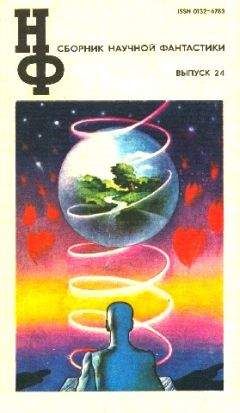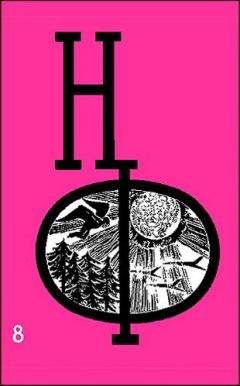Роман Подольный - НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 29
Говорят, моя история показательна. Не знаю. Мой долг рассказать о том, как все было, выводы делайте сами.
Начну с того дня, когда я нарушил запрет, что и повлекло за собой все остальное.
В то утро я патрулировал восточную границу центрально-европейского возмущения (какой гибкий эвфемизм для обозначения катастрофы; кто бы заранее поверил, что мы способны так успокаивать себя?). Всю ночь я мотался на предельной скорости полета и теперь не без удовольствия разминал ноги. Стояла редкая в ту пору тишина. День был мглистый, спокойный, чуть шелестела листва. Коммуникатор молчал. Я наслаждался коротким отдыхом, брел среди светлой весенней зелени, которой все нипочем, и старался не терять из виду Барьер.
Его сиреневое свечение разрезало мир надвое. Силовое поле бритвой прошлось по лесу, вспарывая корневища, траву и мох, ссекая ветви. За Барьером земля казалась вздыбленной каким-то чудовищным, все кромсающим лемехом. Словно кто-то пропахал им вслепую, затем сдернул прежнее покрытие земли и на его место уложил новое, ничуть не заделав рваный грубый шов. Позади него был уже другой лес. И другое время.
Правда, здесь шов не был таким жутким, как в прочих местах. Даже неровности почвы в общем-то согласовывались, что было верным признаком малого сдвига времени. Впрочем, возраст аномалии мне и так был известен, не это предстояло установить, тут я мог спокойно наслаждаться минутами тишины.
Такими, однако, они были лишь с моей точки зрения. Барьер не достигал вершин самых высоких деревьев, и поверх него то и дело сигали белки, столь стремительно, что их длинные распушенные хвосты казались рыжими выхлопами реактивной тяги. Очутившись на той стороне, белки начинали возбужденно цвиркать и скакать с ветки на ветку. Птицы пели лишь далеко в глубине леса, здесь они проносились в молчании, а некоторые метались кругами, словно искали что-то. Еще бы! Сразу за «швом» начинался уже иной лес, и, главное, там было лето — даже сквозь зыбкое свечение Барьера я различал на кустах малинника осыпь спелых ягод. Май и июль соседствовали; белок и птиц такое озадачивало. Нам бы их заботы!
Тем не менее в ту минуту мне было не скажу легко и радостно, но светлей, чем обычно. В природе есть что-то успокоительное: рушился мир целой планеты, признаки катастрофы были прямо перед глазами, хватало и своей печали, а я вопреки всему испытывал удовольствие от ходьбы, шустрого мелькания белок, вида спелых ягод и даже от запаха вздыбленной земли. Очевидно, сказывалась и усталость от долгого нервного напряжения. Разум честно фиксировал обстановку, сопоставлял, делал выводы, однако сознание как будто дремало, и навязчивым мотивом в нем почему-то крутилась одна и та же фраза: «Пока существуют белки, пока существуют белки…»
Что я этим хотел сказать? Что пока существуют белки, еще не все потеряно?
То, что внезапно открылось за резким изломом Барьера, начисто вышибло сонную одурь. Впереди разноцветным огнем полыхала осень! Та ранняя чистая осень, когда свежи и ярки все оттенки перехода красок от темно-зеленого к багряному, когда уже наметан шуршащий покров листвы, но убор деревьев еще плотен и густ. Скупое сообщение со спутника об очередном хроноклазме, которое привело меня сюда, плохо подготовило к встрече с этой трагичной красотой. Позади осталась весна, справа было лето, впереди — осень. Все вместе составляло нечто непередаваемое — пятое время года.
И над всем простиралось грустное мглистое небо. Вдали на пригорке неопалимым костром горела куртина берез.
Осень клином подступила к Барьеру, но нигде не пересекала черту, и я было подивился расторопности полевиков, которые, выходит, успели оградить новый хроноклазм, как тут же сообразил, что дело не в этом. Ничего они не успели и успеть не могли. Просто новый сдвиг произошел в пределах старого. Отрадно! Небрежная скупость сообщения стала понятной: космическим наблюдателям хватало забот поважней, им некогда было возиться с уточнением характера и границ столь мелкого и неопасного возмущения.
Итак, какая, спрашивается, передо мной эпоха? Золотая осень, те же, что и теперь, березы, осины, клены. Явно не мезозой — геологическая современность. С одной стороны, очень хорошо, а с другой — может быть, и очень плохо.
Я пригляделся внимательней. Шов, отделяющий осень от всего остального, был куда грубее прежнего. Всюду развалины, выворотим корневищ, влажные и даже как бы дымящиеся срезы глинистых увалов, рыжая муть ручейка, который уже не знал, куда ему течь, — словом, хаос. Налицо были признаки глубокого разлома времени, так как одно дело смещение на века и совсем другое — на тысячелетия: то, что в наши дни стало ложбиной, тогда могло быть луговой гладью, даже скатом холма. И наоборот. Тут нечего было ожидать плавной стыковки рельефа. Ее и не было. Ни там, где чужая осень граничила с нашей весной, ни там, где она вторгалась в иновременное лето. Только растительность была, в общем, одинаковой. Что ей наши жалкие века и тысячелетия!
И все же — какое прошлое передо мной?
Включив гравитатор, я перемахнул через Барьер и опустился далеко за чертой хаоса. Под ногами тотчас зашуршали листья, легкие вобрали в себя щемящий запах увядания. Чувства невольно настроились на встречу с осенней прохладой, но разница температур, конечно, успела сгладиться. «Интересно, — подумал я мимолетно, — что теперь будет с листвой? Опадет или сквозь желтизну увядания пробьется свежая зелень?»
Посторонние, конечно же, мысли. Строго говоря, мне следовало поскорее взлететь и разведать все сверху. Но уже от сознания этой необходимости заныли все мускулы исхлестанного ветром лица. Успеется, решил я. Так, с маленькой поблажки себе, все и началось. Слепо я вошел в лес. Безбоязненно, как привык это делать всегда.
Я старался не чересчур удаляться от стыка с прежним хроноклазмом, так как помимо прочего надо было еще определить, стоит ли их разграничивать Барьером. Иногда это оказывалось необходимым, однако я надеялся, что здесь этого не потребуется. Плохо у нас сейчас было с энергией. Что там плохо — бедственно!
Лес густел, и как-то сразу помрачнело мелькавшее в просвете листвы небо. Мутным оно стало, недобрым. И как прежде, ни ветерка. Что меня радовало, так это чащобная захламленность леса. Нигде ни малейшего признака человеческой деятельности, всюду ломко трещащий под ногами валежник, очевидное безлюдье, а если так — нет смысла ставить новый Барьер.
Однако я не стал торопиться с выводом и правильно сделал. Впереди обозначился косогор. Подлесок расступился, открыв строй мачтовых сосен, под которыми было просторно и гулко. Вверху долгим вздохом порой прокатывался глухой шум вершин. В прогалах тускло серело небо, однако его света было достаточно, чтобы еще издали различить на косогоре какой-то темный, мерно раскачивающийся меж стволами предмет. Взад-вперед, взад-вперед, так он маятником ходил в мглистом просвете неба. Даже вблизи я не сразу понял, что это такое, как вдруг в сознании мелькнул полузабытый образ.