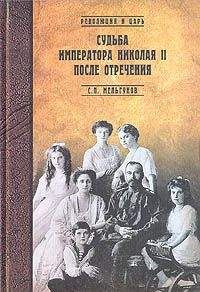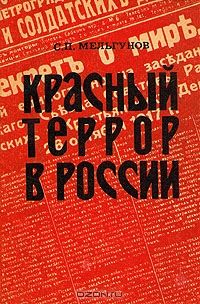Н Мельгунов - Кто же он
IV
Вечером, приехав к Линдиным, я был поражен болезненным видом Глафиры и необыкновенною веселостию Петра Андреича. Он не замечал, по-видимому, ни страданий дочери, ни скуки гостей и был занят одним Вашиаданом (Петр Андреич вспомнил наконец имя своего старого приятеля), который приехал прежде меня и успел уже со всеми познакомиться. Если бы не голос его да фиолетовые очки, я не узнал бы в нем важного, таинственного соседа моего по театру: он был говорлив, весел, развязен и нисколько не казался стариком в шестьде сят лет. Это новое приобретение, как выражался Линдин, утешало его до крайности; он восхищался заранее своим Чацким. Причина его восторга была понятна, но что произвело такое сильное потрясение в Глафире? Ужели одна неудача в покупке перстня? Она не была так малодушна. Или голос Вашиадана пробудил в ней воспоминание о потерянном друге? Ясно было лишь то, что она скрывала в груди своей какую-то новую и страшную тайну, но изведать оную не позволяли ни время, ни благоразумие. Однако я решился спросить ее, в состоянии ли она играть сегодня. Этот вопрос вывел ее из задумчивости. - Разве вы почитаете меня больною? - спросила она, в свою очередь. - Не больною, но расстроенною от давешнего... Она прервала меня с живостию: "Не договаривайте: в самом деле, я не знаю, буду ли в силах играть теперь, но чтоб не огорчить батюшку, постараюсь преодолеть свою робость". - И будто одну робость? - спросил я испытующим голосом. - Господа, господа, - провозгласил Петр Андреич, хлопая в ладоши, - что же наша репетиция? Все актеры налицо начнемте. Глафира поспешно удалилась под предлогом приготовления к репетиции. Дамы и кавалеры, участвовавшие в комедии, последовали за ней в залу, где на скорую руку была устроена сцена из досок и размалеванной холстины. Наконец, посреди жарких споров и совещаний, в коих собственное "я" Петра Андреича раздавалось, словно пушечный выстрел во время мелкой оружейной перестрелки, началась репетиция. Уже умолкли звуки моей флейты (читатели припомнят, что я играл Молчалина), Софья окончила уже свою nocturne (Ноктюрн (франц.)), и резвая служанка, в предостережение барышни, давно завела куранты, а Фамусов еще не являлся. - Что же, батюшка? - спросила Глафира у отца своего. Но батюшка заговорился и позабыл о роли. Однако он скоро опомнился и, понюхав табаку, побежал за кулисы. Смело взошел Петр Андреич на сцену, с удивительным присутствием духа открыл рот и... остановился. Напрасно суфлер шептал ему реплику: Петр Андреич стоял неподвижно. Наконец, вероятно для большего эффекта, он ударил себя по лбу ладонью и поспешно сошел в залу. - Что с тобою, душа моя? - спросила заботливо Марья Васильевна. - Вообразите, - отвечал он, - я и позабыл, что в хло потах и приготовлениях не успел вытвердить роли. - Прочитайте ее по тетради, -сказал, смеясь, Вашиадан, а вперед будьте исправнее. - Не могу, почтенный друг; теперь я не найдусь, смешан. - Но кто же сегодня заменит вас? - спросили разом и Скалозуб, и Загорецкий, и Репетилов, и прочие актеры. Стало быть, мы собрались понапрасну? - Если вам угодно, господа, - сказал Вашиадан, - то, чтоб не расстроить репетиции, я беру сегодня на себя и роль Чацкого и роль Фамусова: они обе мне знакомы. - Ах, благодетель мой! - воскликнул Петр Андреич и чуть не задушил в своих объятиях услужливого приятеля. Многие смеялись над хвастливостию Вашиадана и не верили тому, чтобы можно было сыграть вместе столь противоположные роли, но репетиция разрешила недоумения: игра его превзошла самые взыскательные требования. Вашиадан обладал в высочайшей степени искусством изменять по воле голос, физиономию, приемы: его искусство становилось еще ощутительнее в тех сценах, где Фамусов и Чацкий являются вместе. Зрители забывались и думали, что в самом деле видят два разных лица. В явлении второго действия, когда слуга докладывает о приезде Скалозуба, сосредоточенная язвительность и хладнокровие Чацкого и между тем постепенно возрастающие жар и гнев Фамусова, который, заткнув уши, не хочет и слышать молодого вольнодумца, произвели такое действие на восхищенного Петра Андреича, что он, забывшись, начал махать платком и закричал Фамусову: "Да обернитесь - что за бестолковый!" Эти слова произвели общий смех и на время отвлекли зрителей от чудного актера. Однако в следующих сценах он умел снова обратить на себя одного их внимание. Громкие, непритворные рукоплескания последовали за Протеем, когда в конце комедии с криком "Карету мне, карету!" он выбежал в середние двери и, пройдя в одно мгновение чрез кулису, очутился на месте Фамусова перед Софьей, вдруг изменил лицо, приемы и голосом упрека, недоумения и почти сквозь слезы произнес последние стихи, столь комически довершающие сие оригинальное произведение. Во весь вечер чудный гость Линдина был в полной мере героем и душою общества. Нельзя было надивиться той свободе, с какою он, как бы сам того не примечая, переменял обхождение, разговор с каждым из собеседников, умел применяться к образу мыслей, к привычкам, к образованности каждого, умел казаться веселым и любезным с девушким, важным и рассудительным с стариками, ветреным с молодежью, услужливым и внимательным к пожилым дамам. К концу вечера он получил двадцать одно приглашение, однако, по-видимому, не желал умножать знакомств и уклонялся от зовов, говоря, что едет из Москвы немедленно после представления, в коем участвует лишь из дружбы к Петру Андреичу, старому своему приятелю.
V
За исключением роли Фамусова наша комедия шла так хорошо, что не для чего было откладывать представление. Из множества званых Петром Андреичем на сие последнее, малое число избранных удостоилось чести быть приглашенным на главную репетицию, назначенную накануне. Петр Андреич суетился за всех и как хозяин, и как актер. То расставлял он кресла, стулья по чинам будущих гостей и, ходя, твердил роль свою; то приказывал слугам, где вешать лампы, и учил их передвигать декорации, поднимать и опускать занавес; то вдруг, остановясь посреди комнаты, снова, в сотый раз, повторял известный монолог Фамусова:
"Петрушка, вечно ты с обновкой, С
разодранным локтем..."
- Ах, кстати, - продолжал он, обращаясь к лакеям, - чтоб завтра на вас были новые ливреи с гербовыми воротниками. О, если бы мне удалось сыграть роль свою с толком, с чувством, с расстановкой! Но нет - не держится в памяти.
Ох, род людской! пришло в забвенье!
И подлинно, сколько ни учу, ничего не вытвержу. Черт возьми Фамусова, а вместе охоту, на старости лет, тешить собою публику! Тут с досады бросал он тетрадь свою об пол, мерил шагами залу и с шумом гонял от себя всех, кто ни попадался ему на глаза. В таких-то упражнениях Петр Андреич провел утро перед главной репетицией. Посмотрим, чем занималась между тем Глафира в своей комнате. Роль свою она знала твердо, но тем не менее, выходя в первый раз перед многочисленной публикой, она робела при одной мысли, что оробеет. Напрасно уверяла себя, что снисходительные зрители постараются не заметить ее ошибок и самые недостатки будут превозносить с похвалою. Но эта притворная снисходительность, эти даровые рукоплескания - плата за угощение - еще более смутят ее так она думала. Иной, под личиной снисходительности и даже, если хотите, энтузиазма, скрывает в таких случаях едкую насмешку, и тогда как губы его произносят лесть, на уме шевелится эпиграмма. Кому случалось быть в положении Глафиры, тот помнит, что самоучке-актеру самая похвала может казаться обидою. И добро бы Глафира вступала на сие новое поприще по собственному желанию. Что же, если она это делала лишь в угодность отцу, из послушания, если в то время, как должна была казаться веселою или, по крайней мере, равнодушною, червь горести точил грудь ее? А притворство было неизвестным для нее искусством. Как дорого заплатила бы она, чтобы вместо безжизненной московской девушки, какова Софья, представлять на этот раз Офелию! Тогда бы она умела придать силу и истину каждому слову, каждому звуку, выходящему из уст ее; тогда бы на просторе разыгралось ее бедное сердце: она дала бы волю своему угнетенному чувству! А теперь, кто разделит с нею это чувство, кто поймет ее? Долго предавалась Глафира сим мыслям. Вдруг страшное воспоминание мелькнуло в ее памяти. Между тем как она готовится на праздник, на веселье, милый друг ее, тому ровно год, испускал дух, помышляя о ней! Так, ровно год, как он умер, и с ним умерли все ее надежды! - Прочь, - воскликнула она с воплем отчаяния, - прочь это белое платье, эти розы, эти бриллианты: не хочу я их. Ох, я, бедная! При сих словах она бросилась на постель, закрыла лицо руками и горько, горько заплакала. К ее счастию, никого не было в комнате, и она могла дать волю слезам своим. Нарыдавшись вдоволь, она встала, утерла платком глаза и подошла к туалету. В потаенном ящичке скрыт был портрет ее возлюбленного, снятый с него перед кончиной. Оглядываясь, вынула она из ящичка сие драгоценное изображение, с благоговением приложилась к нему устами и долго не могла оторвать их от оного, потом посмотрела с умилением на незабвенного, еще раз поцеловала его, и ее рука, казалось, не хотела разлучиться с священным для нее предметом. Наконец, по внутреннем борении, она тихо опустила портрет в верный ящик, примолвив трепещущим голосом: "Теперь я спокойна. О, бедный друг мой! Ты лишь там узнал, как горячо я люблю тебя... Но нет нужды: клянусь быть твоею и на земле и в небе, твоею навеки". Тут она взяла черную ленту, лежавшую на ее туалете, и вплела ее в свою косу. "Пусть эта лента, - сказала она, будет свидетелем моей горести. Я оденусь просто - так и быть, надену белое платье: горесть в сердце, да и прилично ли ее обнаруживать? Однако к головному убору не мешает и отделку того же цвета. "Фи, черное! Вся в черном"- скажут наши. Но чем же другим почту я память супруга?" Произнеся это слово, Глафира затрепетала. "Супруга? повторила она, - итак, вся жизнь моя осуждена на одиночество? "Там соединишься с ним", - говорит мое сердце. Но когда? Что, если я проживу долее бабушки?" При этой мысли невольная улыбка появилась на устах прелестной девушки, и сие сочетание глубокой грусти с мимолетной веселостию придало лицу ее еще более прелести. - Что поминаешь ты свою бабушку? - спросила у Глафиры ее мать, вошедшая тихо в комнату. Та вздрогнула. Она сидела в то время пред туалетом, и голова ее матери мелькнула в зеркале. Ей мнилось, что это тень ее прародительницы. Однако она скоро опомнилась и отвечала: - Ничего, маменька. Я говорила теперь: что, если проживу так долго, как бабушка? Я не желала бы этого. - Бог с тобой! Отчего так? - Что за удовольствие быть и себе и другим в тягость? - Кто же тебе сказал это, душа моя? Есть ли что почтеннее преклонного человека и приятнее той минусы, когда бываешь окружен детьми и внучатами, в которых видишь свою надежду и которые напоминают тебе о соб ственной твоей молодости? - Но для этого надо иметь детей и внучат, - сказала простодушно Глафира. - Разумеется: человек создан Богом, чтоб иметь их. Глафира потупила глаза и не отвечала. Простые слова матери уязвили ее в самое сердце. "Я поклялась принадлежать ему одному и в здешней жизни и в будущей, - подумала она, - мне не иметь ни детей, ни внуков!" Тут она глубоко вздохнула. - Что с тобою, сердечный мой друг? - спросила Линдина нежным голосом матери. - Бог послал мне добрую дочь, не думаешь ли, что пора бы иметь мне и добрых внучат? - Нет, маменька. - Полно скрывать, плутовочка; неужели я не приобрела еще твоей доверенности? Открой мне душу, назови мне своего любезного. Вместо ответа дочь упала в объятия матери. - Ты плачешь, душа моя? Перестань, ты смочила мне всю косынку. - Но что это? - вскрикнула она. - К чему на тебе черные ленты? Ты огорчишь этим отца; разве не знаешь, как часто он придирается к мелочам? Нет, сними, сними. - Не могу, милая маменька! - отвечала глухим голосом Глафира, удушаемая рыданиями. - Как не можешь? Что это значит? - спросила с сердцем Марья Васильевна. - Маменька! - тут Глафира прижалась к груди матери сильнее прежнего, и слова замерли на устах ее. - Вижу, это причуда и истерика. Выпей воды, и чтобы о лентах не было помину! Глафира повиновалась, выпила воды; ее рыдания уменьшились, и наконец она сказала с твердостию: "Ма менька, милая маменька! Теперь не время обнаружить вам мою тайну, но клянусь, вы все узнаете. Только, Бога ради, ни слова батюшке!" В эту минуту вошел лакей с докладом, что гости приехали к обеду; Линдина поспешила к ним; спустя несколько времени пришла и Глафира.