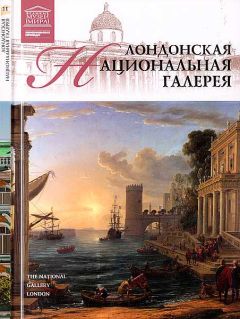Феликс Суркис - Загадочная гравюра
Я дождался, пока Лида куда-то ушла, и открыл клетку.
Ромка зашевелился, высунул сквозь дверцу головку и плавными извивами потянул свое длинное тело сначала на приемник, потом мне на руку и на плечо. Он любил тяжелым черным галстуком повиснуть у меня на шее, и два оранжевых пятнышка ложились обычно туда, где полагалось быть сверхмодному узелку. Но сегодня он полз и полз и, едва выпростав из клетки хвост, вдруг неуловимым броском, без толчка прянул в воздух. Упругая лента — воплощенная отточенность и грация! — перелетела комнату, скользнула над нашим диваном и бесшумною черной молнией вонзилась в святой лик Николы-чудотворца. Я никогда не подозревал, что это крохотное тельце — итог миллионнолетней эволюции, которая довела приспособленность вида до умопомрачительного совершенства и одним этим убила в нем саму возможность дальнейшего развития, — я никогда не подозревал, что крохотное его тельце обладает такой огромной силой. Он вложился в портрет, изломав и скомкав себя, как вкладывается — колено в колено — подзорная труба. Мы не угадали в нем преданности, переведя на понятный нам язык взаимоненавистнических отношений его странное поведение! А он, вооруженный могучим инстинктом — этой бесконечной памятью поколений, наделенный изощренными, недоступными человеческому восприятию органами чувств, всем опытом многовековой борьбы за существование, — он уловил какую-то подозрительную враждебность в пронзительном взгляде Николы. И поступил так же, как поступали до него миллиарды змей, — атаковал.
Вот тогда мне и стало жутко. Что же такое стало ясно Ромке с его инфракрасным видением? И что же все-таки с такой силой бросило его на икону, хотя змеи никогда не охотятся на неподвижные предметы, тем более — на неодушевленные?
Я снял своего «святого» со стены и понес другому чудотворцу — Сережке Троянцу. Прозвище его говорило само за себя. Он знал и умел все. Немного рисовал, неплохо писал стихи, отлично фотографировал. Но лучше всего он играл — играл человека, который знает и умеет все. И в этом ему помогал блестящий дар импровизации: он мог выдумать что угодно — от падежей несуществующего языка до шкалы для еще неоткрытого состояния материи. Он знал толк в живописи. Но даже если б он никогда о ней не слышал, мне все равно было не к кому обратиться.
С этого момента и начинается вторая жизнь Николы. Вернее, не Николы, а «загадочной гравюры», как теперь с нашей легкой (по невежеству!) руки называют ее все специалисты. Или, еще вернее, — и Николы, и «Фантастической гравюры». Потому что неожиданно для нас обоих мы стали открывателями еще одной самой уникальной в мире картины.
Сережка Троянец выставил против иконы всю свою дьявольскую изобретательность, а также многочисленных друзей — художников, химиков и даже одного криминалиста. Ее фотографировали через все мыслимые фильтры. Просвечивали рентгеновскими и ультрафиолетовыми лучами. Рассматривали в микроскоп каждый мазок кисти на ее поверхности. Мне кажется, хотя это до сих пор от меня и скрывают, что ее варили в кастрюле и долго выпаривали на медленном огне. В общем, подробностей я не знаю, но в результате всех ухищрений им удалось снять верхнюю пленку краски — обыкновенную яичную темперу, действительно наложенную Алексой Петровым в 1293 году на еще более древнюю роспись. То есть, именно росписью-то и нельзя было назвать впервые обнаруженную нами обработку дерева, меняющую саму структуру поверхности на глубину приблизительно в 2 мм. Это были как бы многократно наложенные и проявленные изображения, не красками, а каким-то неизвестным науке стереофотоспособом. При всей необычности лика святого, при всей его исключительной одушевленности и, между прочим, при всей нашей подготовленности к чуду, открытие оказалось ошеломляющим. На нас, навсегда вживленное в дерево, глядело неземное трехглазое лицо!
Древний новгородский художник искусно воспользовался кистью, чтобы придать ему человеческие черты. Нигде не отступив от общего контура, сохранив рисунок, ткань картины, он вместе с тем придал каждой линии собственную интерпретацию. Превратил в реденький хохолок пляшущее над теменем голубоватое пламя. Третий глаз во лбу, чтоб не смущать мирян, замаскировал в странный, но не противоестественный узел морщин. Плотные выступающие образования по бокам головы сделал слегка оттопыренными, посаженными низко, почти у самого подбородка ушами. Два веерообразных пучка щелевидных отверстий стали диковатыми, чуточку асимметричными усиками. Безгубый, немного вытянутый вперед, абсолютно круглый рот оказался завитком бороды, так что живописец с трудом втиснул под усы маленький новый ротик с крохотными, едва намеченными губами. Потом оживил привычными красками непривычные для нашего глаза цвет лица и одежды, убрал многочисленные черные пятна фона, и получилась незаурядная, но вполне земная икона. Так сказать, обыкновенный чудотворец.
Но как он попал к Алексе Петрову? Кто же позировал еще более древнему анониму, искусство которого на простом куске дерева донесло до нас неподвластную времени информацию? Хотя нет. Так и такими средствами мог писать только тот, кто изображен на портрете.
Не просто описать, по какой причине я пришел к этому выводу. Мы долго спорили, думали, снова спорили, пока не выработали единого толкования. И тут мне придется вкратце коснуться философских основ зрения.
Для человека с одним глазом мир предстает плоским. Два глаза развертывают картину по горизонтали, потому что рассматривают объект с двух разных точек зрения. Каждый глаз видит свое несколько отличное изображение и передает его в мозг, который трансформирует их в стереоскопический кадр. При этом, в силу физиологических, если так может выразиться, допусков на состав, число и восприимчивость палочек и колбочек, в силу микроскопических различий в строении нейронов, проводящих импульс, даже цветовое видение для каждого глаза различно. Происходит суммирование цветности, и спектр изображения, рассматриваемого двумя глазами, становится значительно богаче, чем для любого из них. Поэтому никогда одно самое зоркое око не заменит двух.
Но мы, люди, так привыкли к своему богатству и так горды, так вжились в свои роли царей природы, что не замечаем, как мы бедны. Окружающее нас пространство трехмерно. Мало одной только развертки по горизонтали. Нужна третья точка для рассматривания предметов в их дальномерном развитии. Нужен третий глаз, расположенный выше первых двух! И если двумя глазами человек видит как бы две грани куба, то третьим глазом он мог бы увидеть третью — верхнюю грань, приобретя что-то вроде панорамного зрения. Правда, частично мы научились компенсировать свой физический недостаток едва заметным вскидыванием вверх-вниз головы и движением глаз в вертикальной плоскости. Но только при одновременном сравнении трех изображений мы смогли бы оценить мир в полном объеме. Три — число необходимое и достаточное. Никакое последующее увеличение тут ничего не изменит: всегда остаются две базы — горизонтальная и вертикальная. Но какой поток информации об окружающем мире хлынул бы в наш мозг! И какая беспредельная палитра красок стала бы подвластна органам чувств!