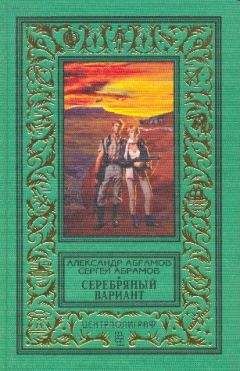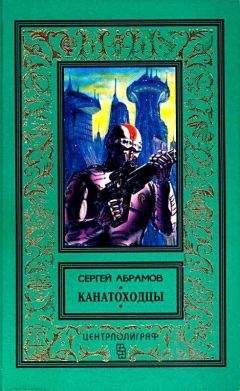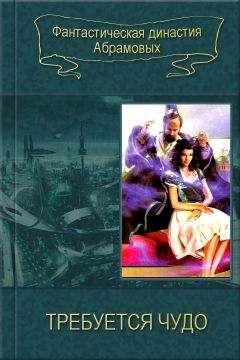Сергей Абрамов - Человек со звезды (сборник)
День у него был расписан по клеточкам: после школы обед, оставленный матерью на плите и в холодильнике, уроки – под ярким девизом «Иду на медаль!». Потом быстренько переодеться, хлопнуть дверью, бегом вниз, через дорогу, плюя на светофоры, в боковые ворота парка «Сокольники», мимо Дворца спорта, мимо кафе «Фиалка», мимо павильона аттракционов, мимо детского городка с деревянными лисами, волками и бабой-ягой, мимо забора международной выставки – дальше, дальше, в лес, в осенний парк, где еще не поменявшие рыжую шкурку белки прыгают на плечо, тянут тупые мордочки за подачкой.
Там, за поломанной скамейкой, на которой никто не рискует сидеть, есть двойная береза, как гигантская рогатка. Можно встать около, прислониться спиной к шершавому стволу, закрыть глаза…
А потом открыть и увидеть другой лес, и дорогу в другом лесу, сухую, еще по-летнему пыльную, и низкий костер у дороги, и старика Леднева, прилаживающего котелок над костром. И услышать привычное:
– Набери веточек, Игорек.
2За ветками далеко ходить не пришлось: начало осени, лето, видать, жарким было, безводным, сушняка кругом много. Целую осинку, невесть кем сломанную, притащил к костру Игорь, высохшую уже, без листьев. Старик Леднев котелок приладил, достал из котомки жестяную банку, давно обесцвеченную, со стертым рисунком, отсыпал чаю на ладонь, понюхал.
– Ах, нектар, чистый нектар… – Сыпанул в котелок, оттуда зашипело, будто не чай, а зелье какое-то брошено в воду.
Вообще-то говоря, Игорю не нравился чай, сваренный, как суп, непрозрачный, черный, хотя и духовитый. Он поморщился, заранее представив вкус «супа», но не стал лезть с замечаниями, сказал только:
– Нож дайте.
– Ножичек тебе, ножик… – Вроде бы засуетился Леднев, однако без всякой суеты, точным движением сунул руку в котомку, достал складной охотничий нож с костяной рукояткой. – Не поранься, Игорек.
– Ништо… – вспомнилось читанное где-то слово, старое, даже ветхое, «из Даля», как говорил отец. Мертвый язык.
Но старика Леднева на простачка не купишь. Бровь приподнял, глянул.
– Стилизуешься, Игорек… Не твое выражение, простонародное, а ты – мальчик из бар…
Спорить не хотелось. Подбрасывал к костру осиновые ветки, думал, что плохо без топора. Едят всухомятку, только чаем и заливают сало да хлеб – из той же котомки Леднева. Хорошо прийти в деревню, остановиться у кого-нибудь в избе, выпить молока, коли окажется, похлебать настоящего супу. Правда, откуда он в деревне – настоящий? Мяса нет, а с картошки да свеклы особо не разжиреешь. А что о топоре пожалел, так вот почему. Раз к вечеру уворовали картошки с чьего-то поля, хорошая картошка здесь уродилась, крупная, крепкая – так пока сварили, Игорь все ноги оббил, хворост для костра таскал, чтоб не угас тот раньше времени. А был бы топор, нарубили бы дровишек…
Топор был в московской квартире Игоря, но квартира та существовала в ином мире, в ином времени, в ином измерении, короче – неизвестно где, и приносить оттуда нельзя ничего, это Игорь знал точно.
– Чай готов, извольте кушать! – пропел Леднев, произвел над котелком, над паром какие-то пассы, потом сел, скрестив ноги, угомонился, сказал скучно: – Разливай, Игорек. Чаек – дело святое, от него любая болесть сгинет.
Пили чай из кружек, обжигались. Сало с хлебом старик еще раньше нарезал, хорошее сало.
Игорь сказал не без ехидства:
– А «болесть», выходит, ваше слово? Тоже под народ рядитесь?
– Ряжусь, Игорек. – Против обыкновения Леднев был спокоен, не петушился, не лез на рожон. Отставил кружку, ухватил в пятерню свою университетскую бородку, глядел, как умирал у ног слабый костер. – Это раньше, году эдак в тринадцатом, все ясно было. А нынче на дворе – восемнадцатый. Нынче и понятное непонятным стало. Нынче мы все ряженые, иначе не проживешь. Ты ко мне: маска, маска, я тебя знаю. А под маской – другая маска, и ничего ты, оказывается, не знаешь, не ведаешь. А что под народ, так все мы с одной земли вышли. Помнишь, у Ивана Сергеевича: «Мой дед землю пахал…»
– Ваш – вряд ли.
– Ну, мой дед не пахал, не пахал, так по земле ходил, по той, по какой и мы с тобой ходим.
Игоря порой раздражало ерническое многословие Леднева, пусть безобидное, пустое, но уж больно никчемушное в это трудное время, которое сам Леднев называл братоубийственным.
– Павел Николаевич, дорогой, вы же профессор русской истории, красивым слогом с кафедры витийствовали, студентов в себя влюбляли. На кой черт вы рядитесь, да не в народ даже, а в шута?
Обиделся старик? Вроде нет, а вообще-то кто его знает?..
– Шуты – они народу любы… А ты, Игорек, откуда знаешь, кем я с кафедры витийствовал? Может, шутом и витийствовал? Может, за то студенты-студиозы меня и любили?.. Да и не профессор я давно, а проситель, по миру пущенный. И ты со мной, сынок интеллигентных родителей, баринок безусый, – тоже проситель. Нету сейчас ни профессоров, ни дворян, ни студентов, ни интеллигентов. Есть люди, которые жить хотят. А точнее, выжить…
– Тоска-то какая в слове: вы-ыжить… Выть хочется.
– А ты и повой. Над всей Россией вой стоит: брат на брата войной идет.
– И какой же из братьев прав?
– Оба дураки. Им бы в мире блаженствовать, а они мечами бряцают.
Все это уже было, было, разговор многосерийный, долгий, как в телевидении, которое еще не изобрели.
– Мир во человецех и благоволение, и царь-батюшка сим миром мудро правит?
– Ну, это ты, Игорек, слишком. Время для царя кончилось.
– Это вы так считаете, а кое-кто из братьев, вами помянутых, иначе думает. Оттого и мечом бряцает.
– У тебя родители кто? Инженер папаша, так?.. А думаешь не как инженеров сын, а как кухаркин.
– Сами-то вы из каких будете, Павел Николаевич, не из кухаркиных ли?
– Груб ты, юноша, но прав по сути… – Засмеялся, откинулся на землю, задрал горе бороденку. – Хорошо в небе-е…
Игорь тоже лег на спину, сунул в рот травинку. Ему иной раз хотелось рассказать мудрому профессору о том, что завтра будет, что послезавтра, что потом. Поведать, какой из братьев прав, как говорится, исторически, а значит, и житейски – не сегодняшней правотой, сиюминутной, а истинной, которая неподвластна времени. Профессор не дурак, давно его Игорь раскусил, притворяется старик хитро, комедию ломает, нравится ему шутом себя ощущать, да и вправду с людьми у него разговор хорошо получается, верят ему люди, какие встречаются на их пути. И не исключено, поймет его профессор, да толку-то что? В песне, которую он, наверно, не знает, но которую поют уже и еще раньше пели, есть такие слова: «Вышли мы все из народа». Профессор для людей его круга, для университетской элиты – типичный выскочка, сын мужика-землемера, кухаркин ребенок, сам себя, подобно Мюнхгаузену, за волосы «в люди» вытащил. Ему ли не знать, кто прав? И разговор этот, как уже отмечалось, давно между ними ведется, Игорю до смерти надоел, а старик Леднев – как огурчик, как юный пионер: всегда готов покалякать, поискать истину в мутной воде слов.