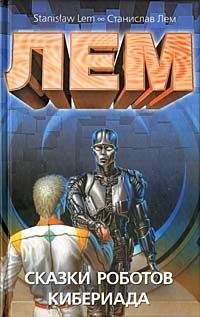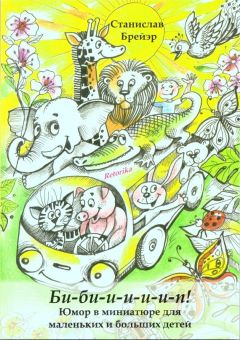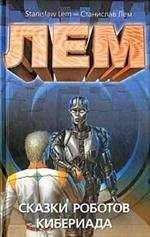Станислав Михайлов - Жемчужина
Почти так и получилось.
Видения, сопровождавшие замедленное состояние жизни, отпустили меня, не оставив в памяти ничего, кроме теней.
Дни прошли как одно мгновение.
Усилием воли я вызвал дрожь, разогревая затекшие мускулы, расширил кровеносные сосуды, ускорил сердце почти до нормального ритма и погнал кровь по жилам. Так учил Дсеба, и я несколько раз практиковал этот прием, позволяющий быстро растормошить тело. Убедившись, что рот свободен, я осторожно вдохнул, постепенно расправляя диафрагму и придавленные легкие.
Когда в скрещенные на груди руки вернулась подвижность, я решил раскапываться и осознал, что совершенно не представляю, как это сделать, лежа на спине. Слой песка надо мной оказался неожиданно толстым — хорошо, что он был абсолютно сухим и не успел как следует слежаться — видимо, надуло недавно. Потихоньку ворочаясь и придерживая одной рукой тряпку на лице, мне удалось развернуться, подтянуть под себя ноги и только тогда, наконец, выбраться из заточения.
Выходное отверстие моей вентиляции за эти дни почти занесло, но труба не забилась, и воздуха в ней оказалось достаточно. Не зря я соорудил заградительную насыпь, хотя думал больше не о защите от ветра, а о маскировке.
Воля пахнула в лицо слабеющим предзакатным зноем.
Отряхнувшись, я высвободил обрывки одежды, кое-как обмотался ими и уселся спиной к скале, прищурив глаза. Голова сильно кружилась, страшно хотелось пить, голод терзал меня. Я отстранился от ощущений, как учил Дсеба, оставил их на границе кожи, чтобы следить за ними, но не переживать их.
Солнце садилось в горы где-то позади, невидимое для меня. Бледный Вестник, прикрытый полумаской, готовился скрыться за гребнем соседней скалы, кроваво-красной в огне заката. Ночь будет темна. Верному спутнику требуется четвертая часть полного дня, чтобы обежать Жемчужину кругом. Только перед рассветом он выскочит на небо, как раз, чтобы осветить мне подход к горам. Или показать меня врагам. Если я ошибся во времени, и наследники еще ждут… Если по какой-то причине кто-нибудь еще караулит границу пустыни… Об этом лучше не думать, все равно нет сил ни бороться, ни прятаться, ни бежать — только упрямо ковылять и ковылять до предгорий и дальше по тропе, пока не попадется ручеек или какая-нибудь дикая древесная дыня.
Концентрация лопнула, как перезрелая кора дерева йови, и ощущения хлынули внутрь меня. Судорожно, до боли в горле, сглотнул; резью отозвались потрескавшиеся губы. Дыня, так похожая на бегущего по небу Вестника…
«Фобос», — чужой голос прохрипел в ушах слово, похожее на ругательство.
«Пить! Пить!» — вторили ему голоса пустыни.
Не дожидаясь темноты, я выполз из-под скалы, с трудом поднялся и, шатаясь, пошел за солнцем. Вытеснив ощущения обратно на границу осознания.
«Я — твой наследник, солнце! А ты — мой парящий. Дай мне воды, приведи ко мне тучу дождя! Дай руку, я уцеплюсь за нее…» — мысленно бормотал я. То бредил рассудок. Ноги же, заплетаясь и увязая по щиколотку, упрямо, как заведенные, тащили меня назад из коричневых песков, к утесу Крепости Костей, на запад.
Когда рассвело, я уже карабкался по склону рядом с бывшей заставой баальбетов, нежно-розовой в первых лучах солнца. Мелко дробленый плитняк сползал со звонким постукиванием и шелестом глиняных черепков, споро выметаемых из дома суеверной хозяйкой — от беды. Вцепившись в эту примету, я укрепил дух, чтобы сделать еще хотя бы несколько шагов.
Миновав поворот к заставе, выбрался на старую дорогу, ту самую, по которой меня гнали в пустыню неотступные слуги святош. Выбрался и упал, ибо дальше идти сил не осталось. Не то даже, чтобы идти, а помыслить идти, шевельнуть рукой или ногой, повернуть голову. Смешно погибнуть здесь, ввиду Крепости Костей, почти спасшись, проломившись через немыслимые преграды, выставленные мне судьбой с момента изгнания. Но и смеяться, и даже только усмехнуться — не получилось. Сознание шустрым юрцом скользнуло в темную, заманчивую щель небытия, погасло в ней, как гаснут угли, брошенные на жертвенной чаше.
Пустыня все-таки не выпустила меня — ухватилась голодными зубами за пятку…
* * *«Чертов Марс!» — я очнулся, сплевывая несуществующий песок.
Кожа по всему телу зудела, будто натертая крупной каменной солью.
Ночь. За распахнутым окном собирается гроза. Тяжелые тучи, подсвеченные снизу городскими огнями, размашисто наползают с востока, закрывая черное звездное небо.
С востока, со стороны моря Гем…
Нет здесь моря Гем! Это — Земля, Земля!
И нигде больше нет этого треклятого моря. Оно осталось во снах, как и Крепость Костей, как и коричневые барханы пустыни, разрубленные кровавыми скалами. Обычный песчаник, а в песке преимущественно КПШ, ортоклаз какой-нибудь, кварц, ожелезнение, эка невидаль…
Но привычные слова не могли рассеять впечатления от очередного кошмара.
Сон дан человеку для отдыха, а не для мучений.
С оглушительным треском разорвался за окном воздух. Почти одновременно со вспышкой.
— По-ол… — зевая, протянул с кровати Катин голос. Она говорила что-то еще, но продолжение потонуло в шуме обрушившегося на дом дождя.
Я подошел к окну.
Яростные струи с огромной силой и скоростью неслись к земле, врезались в подоконник, брызгали во все стороны, мгновенно намочив меня с головы до пояса. Последний раз я видел ливень на Ганимеде. Никакого сравнения с этим. Там все происходит медленно… Пожалуй, чуть быстрее, чем зимой здесь падает снег. И в полете видна каждая капля, а не эти прозрачные стрелы, сверкающие во вспышках молний.
Снова затрещал гром, как нарочно целясь в уши. Задребезжал в шкафу древний хрусталь. «Прабабкино наследство» — назвала его Катя Старофф, хозяйка моего сердца. Зачем-то привезла этот хрусталь сюда, хотя не собирались задерживаться в съемном домике дольше чем на пару недель.
Она подошла сзади, обняла. Контраст сухого тепла ее живота с зябкой влагой, влетающей в комнату, оказался настолько сильным, что я вцепился в край подоконника пальцами, сведенными едва ли не судорогой. Или это что-то из сна пыталось вырваться наружу?
Катя властно развернула меня к себе, захлопнула окно и прижалась прямо к мокрой груди. Она взяла мое лицо в ладони и поцеловала в холодные губы, долго не отрываясь. Глаза ее оставались открытыми, как и мои.
— Кто такой этот Дсеба? — вопрос прозвучал настолько неожиданно, что одним ударом выбил меня из транса.
— Кто?
— Да, кто? Дсеба? Тот, кто учил Ксенату?
— Не знаю… — я растерялся. Откуда она знает… Причем тут… — А, так это был Ксената…