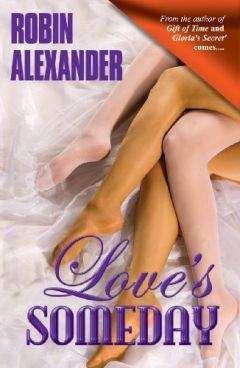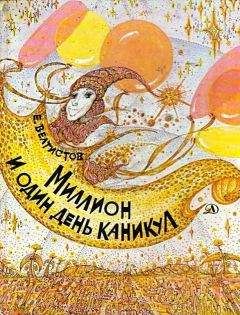Василий Щепетнёв - В ожидании Красной Армии
Первые дни город не отпускал меня, я суетился много и, большей частью, зря — побелил потолки, отмыл, отскоблил полы, поправил крохотную баньку, вычистил погреб, надеясь ссыпать мешок-другой картошки, а, главное, сработался с плитой.
Плита была — перестроенная, правый бок ее, крепкий, капитальный, местами хранил на себе изразцы, простенькие, товарищества Беренгеймъ из далекого Харькова. Все же остальное, подстроенное к этому боку, давно обогнало его в дряхлении, потихоньку крошилось, отпадала глиняная обмазка, обнажая дрянной кирпич, и даже чугунная дверца болталась на одной петле, другая треснула и раскололась. С трудом несла плита в себе котел отопления, духовку и четыре жерла, прикрытые чугунными кольцами.
Брякали они — до души пробирало, взбулгачивало заиленные воспоминания, которым бы лучше и совсем окаменеть, сцементироваться. Тогда на меня падала хандра. Я ложился на скрипучую кровать, железную, с шишечками, и смотрел в потолок. Порой солнце заглядывало в окошко, отражалось в позабытом на подоконнике щербатом зеркале, и тогда зайчик составлял мне компанию. Зеркало постепенно пылилось, и зайчик серел: отсутствие электричества отучило меня от каждодневного бритья, и зачем? земской доктор просто обязан иметь бороду. Зайчик прятался на потолке, выдавая себя медленно осыпавшейся побелкой, хлопья которой кружили редкими рождественскими снежинками.
А до рождества — далеконько.
Избыть тоску помогала лопата. Метр за метром я вскапывал землю вокруг медицинского пункта, вытирая третьегодные засохшие цветы, чувствуя себя покорителем целины. В уголке рисково посадил чеснок, все-таки срок прошел. Ужо весной по-настоящему обустрою садик, полью потом и слезами, расцветет тысяча цветов и вырастет большая-пребольшая репка.
Дурашливость моя была дешевой, второсортной, как и жизнь, да с нас и этого довольно.
С меня и зайчика.
* * *Кипяток, злой, крутой, терзал заварку в третий раз.
Опивки. Писи сиротки Марыси. Ему крепче и нельзя, какой стакан за день, шестой? седьмой? Да и годы не те чифирем баловаться. Годы и сердце. Сейчас об этом думалось даже со злорадством. На-кось, выкуси — мобилизовать. Хотя Гитлер не слаще хрена, тоже сволочь, — перед сторожем лежала вчерашняя газета, невольно направляя мысли.
Война, дождались, накаркали.
Все песни о ней, все разговоры. А и ему поговорить не с кем. Оно неплохо, болтун ошибается единожды.
Нервно, дергано задребезжал звонок. Нанесла нелегкая. Война ведь. Воскресенье, в конце концов. Инспекция пожарная?
Он поспешил ко входу.
— Ворота отворяй, — скомандовал кто-то, просовывая в окошечко удостоверение.
— Слушаюсь, — сторож не посмел коснуться документа, досадуя на дрожь рук, отпер замок, бегом распахнул ворота.
Во двор музея вкатил «воронок», из нутра его вышли трое. Двое — в форме, а между ними… сторож заморгал, не зная, как отзываться, увидя старого директора, директора, под которым работал с тех пор, как устроился в музей, с двадцать пятого, значит, и по тридцать седьмой. Вернулся директор, или как?
Признать? Не заметить?
— Не узнаешь, Семеныч? — директор робко улыбнулся, и робость эта подсказала ответ.
Сторож неопределенно хмыкнул.
— Прикрой ворота, — скомандовал, выходя из кабины «воронка», бритый наголо крепыш в штатском. Старший, догадался сторож.
— Семеныч, в порядке музей? — спросил бывший директор.
Сторож посмотрел на бритого, тот едва заметно кивнул.
— Вроде без происшествий.
— И кладовая… шестая кладовая… в порядке?
— Что ей сделается.
— Тогда веди.
Сторож опять посмотрел на крепыша, спрашивая.
Они шли по полутемным коридорам, спускаясь в цокольный этаж, а оттуда, отомкнув кованную дверь, совсем уже в подземелье, глубоко, тридцать две ступени. Воздух не затхлый, сухой, умели раньше строить, место выбирали.
Ход привел к новой двери.
— Опечатано, — сторож показал на сургучные бирки. Бритоголовый молча сорвал их. Сторож лихорадочно искал ключ, страшась, что не окажется такого. Или замок заест.
Страхи оказались пустыми — дверь раскрылась. Они прошли на порог комнаты, нет, зала. Десятисвечевая лампа едва разгоняла мрак.
— Здесь, здесь, — засуетился директор. — Семьсот четвертый, тунгусский, — он наклонился к ящикам, сколоченным из занозистых досок. — Вот, вот он.
Парни, сопровождавшие директора, вытащили ящик на свет, топором с пожарной стены сорвали крышку. Число семьсот четыре, выведенное на боку коричневой краской странно выгорело. В темноте-то?
— Сейчас, минуточку, — директор вытащил серый тюк, — свинцовая резина, — он разворачивал ткань слой за слоем. — Видите?
— Заверни, — прикрикнул, отступая, старший. Сторож и не разглядел толком, что это было. Темное, шершавое…
— Он, феникс, безопасен, пока… Чтобы это проснулось, нужна подкормка. Радий, или еще что-нибудь… Питательное… — сбивчиво объяснял директор, пытаясь заглянуть бритоголовому в лицо.
— Питание готово. Ждет. Несите в машину, — распорядился старший.
— Нужно бы акт составить, об изъятии, — в спину уходящим проговорил сторож.
— Завтра составим, завтра, — отмахнулся крепыш.
— Но…
— И смотрите — никому не слова!
— Я понимаю… Слушаюсь…
Его не дожидались, и когда сторож запер последнюю дверь, «воронок» съезжал со двора.
— Никому! — пригрозили из кабинки.
Что мы, совсем без ума. Сторож вернулся на пост. Чай основательно остыл, но в горле пересохло, и греть наново не было сил. Старый чай, что змея, утешая, жалит. Восточная мудрость.
Он отхлебнул. Действительно, чай оказался горьким, он успел еще подумать удивительно горьким….
* * *Стук в окошко негромкий, но пробирает, что набат. Кровать еще звенела панцирной сеткой, а я наощупь продевал руки в рукава халата, хрустящего, жесткого. Сам крахмалил. За таким стуком бывает всякое. Что хочешь бывает, и, особенно, чего не хочешь. От занывшего не ко времени зуба до синего, остывающего трупа: «тятенька вчерась городской водки откушали…». Хотя, ели не для проверяющих, деревенские меня не особенно теребили, я для них был чем-то вроде ОСВОДа, заплатил понуждаемо взнос, получил марку, наклеил куда-то и забыл.
Вместо марки был доктор Денисов П.И., невелика разница, разве без клея.
С поспешностью я откинул крюк, выглянул.
Разлетелся.
На пороге стоял учитель.
— Хлебушко приехал, — поприветствовал он меня. Душа-человек. Пестун. Другой бы сам отоварился и будет, а он за мной зашел. Заботится.
Пока я снимал халат, вешал его на плечики в шкаф и облачался в мирское, он вещал из сеней, пересказывая новости мира. У него «Панасоник», на батарейках.