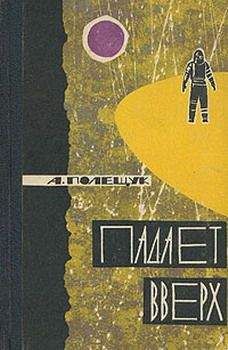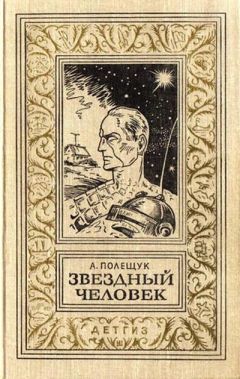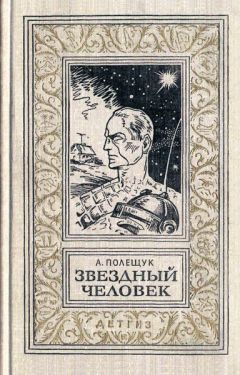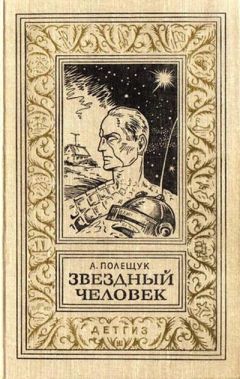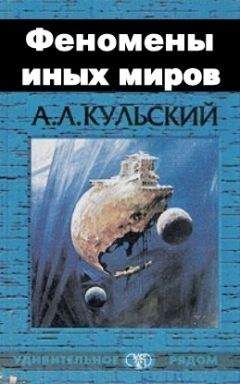Александр Полещук - Падает вверх (Иллюстрации А. Блоха)
Это вовсе не было шуткой. Это было обязательное домашнее мероприятие. Джулия самозабвенно любила стирать и не один раз проникала в кладовку, куда прятали замоченное белье, и «стирала» его с таким остервенением, что ткань распадалась на тонкие ленточки. Вот тетя Паша и придумала ставить перед собой во время стирки маленькую чашку с куском мыла и несколькими тряпочками, и Джулия, старательно выпятив губы, мылила и терла тряпочки и тщательно их прополаскивала, пока это занятие ей не надоедало.
В кухне стояла просторная железная клетка, куда Джулию отправляли на ночь. В клетке не было дверцы, ее просто наклоняли набок, и Джулия с виноватым видом отправлялась на свой матрасик спать.
Однажды Джулия заболела. На ее спине вздулся огромный нарыв, и никакие компрессы не могли ей помочь. Грустная-грустная лежала она на своем матрасике, и ее черные глаза в тонких старческих морщинках были полны такой тоски, что ни у Зиновия Александровича, ни у меня не оставалось никаких надежд. Нужна была срочная операция, но Джулия не давалась в руки. А когда в дело вмешалась тетя Паша, то укусила ее за палец, глубоко и пребольно. И вдруг как-то вечером Зиновий Александрович серьезно сказал мне:
— Будешь ассистировать мне… Вот тазик, вот тампоны, пинцет. Когда надо будет, подашь.
Мы вошли в кухню. Страдания Джулии достигли предела. Зиновий Александрович гладил ее, называл ласкательными именами, но она лежала с закрытыми глазами и тихо, совсем как человек, стонала. С трудом продев руки сквозь прутья клетки, Зиновий Александрович посадил Джулию спиной к себе и, став на колени, осторожно стал выстригать шерсть на ее спине. И здесь произошло то странное, что не поддается никакому объяснению: Джулия вдруг выпрямилась и прижалась к прутьям клетки, напряженно ухватившись руками за перекладину.
— Скальпель, — бросил мне Зиновий Александрович.
Я передал ему узкий нож с деревянной ручкой, и он быстро сделал надрез. Я боялся, что Джулия тотчас же закричит и отскочит в сторону, но она только сильнее прижалась к прутьям и позволила провести всю мучительную операцию до конца. Затем я наклонил клетку, а Зиновий Александрович туго перебинтовал Джулию и уложил ее на матрасик. Джулия тотчас же заснула.
— Лишь бы не было нового нагноения, — сказал он мне. — Второй раз Джулия не дастся.
Но он ошибся. К утру Джулии стало опять хуже, и она, поняв, чего от нее хотят, вновь прижалась своим исхудавшим телом к прутьям, и Зиновий Александрович произвел очистку ранки.
— Ты страдал вместе с ней, — сказал мне Зиновий Александрович, — это правильно… Я хочу сделать тебе подарок. Ты обидишь меня, если откажешься… Это не простой подарок, потому что на всю жизнь…
Прошла, однако, неделя, другая, а об обещанном подарке Зиновий Александрович, казалось, забыл. Потом он куда-то уехал, а когда однажды я вернулся из школы, на моем столе лежала стопа толстых книг. Это был десятитомник Альфреда Брэма «Жизнь животных».
— Зиновий Александрович слишком тебя балует, — сказала мне мать. — Его книги нужно вернуть.
Но я уже раскрыл первый том, и изящный золотистый леопард смотрел на меня завораживающим взглядом, а вокруг яркой зеленью клубились джунгли, не фикусы с рододендроном, как у нас с Джулией, а самые настоящие джунгли.
ИНСТИНКТ МАТЕРИНСТВА
Он появился неожиданно. Его прибытие возвестил на весь город надсадный крик, громкий и странный. Это кричал большой, как дом, желтый двугорбый верблюд. Второй верблюд, горбы которого плавно я мягко колыхались, молчаливо тянул высокую фуру с какими-то ящиками, прикрытыми охапками сена. Рядом с верблюдами, помахивая тростью, шел высокий военный, весь в ремнях, на боку большая коричневая кобура. За ним бежали ребята. Они восторженно глядели то на командира, то на кричащего верблюда. К вечеру в город вошел полк.
Для меня да и для других мальчишек было у самого берега моря запретное место с непонятным названием «курзал». Это была большая площадка, вся изрытая ямами. Здесь когда-то был помост для танцев и раковина оркестра, но доски растащили для всяких домашних нужд, а потом в город вошел Махно, и его адъютант свел на этом самом месте свои бандитские счеты с какой-то семьей; искал ее батька по всей Украине. Говорили, что погибшие были земляками батьки из Гуляй-Поля и чем-то провинились перед ним. Страшная эта расправа так поразила всех, что много лет спустя имя адъютанта произносилось только шепотом; «Марусяк» — так звали его. С того времени «курзал» опустел.
И вот неожиданно «курзал» ожил. Красноармейцы привезли бревна и доски, настлали пол, верблюды подвезли на большой телеге скамьи, и вскоре грянул над морем кавалерийский марш. Весь вечер гудела невиданная мною раньше огромная труба и тонко звенел блестящий треугольник, но, кроме нас, мальчишек, рассевшихся на теплом песке под обрывом, никто к «курзалу» не пришел. Время от времени кто-нибудь из нас поднимался вверх и стремглав скатывался обратно.
— Здорово как! — кричал смельчак. — Чего вы боитесь?
Потом заиграли что-то веселое, кажется «Яблочко», и сверху донесся легкий и четкий стук каблуков. А когда мы ползком приблизились к помосту, то увидели высокого командира в ремнях; заложив руки за голову, он выбивал сапогами лихую чечетку. В этом мы все знали толк и, когда оркестр перестал играть, громко захлопали в ладоши.
Мать долго расспрашивала меня вечером, и я видел, что мой рассказ будит в ее душе какие-то давние воспоминания.
Дважды в пятидневку ввинчивалась лампочка над синей раковиной оркестра, и, пока собирались люди, звенели и гремели марши. Никто уже не вспоминал про страшного Марусяка. Оркестр полюбился и рыбакам и девчатам с консервного заводика, расположенного возле тонюсенького ручейка в глубине степи. Тем с большим удивлением я услышал неожиданное приказание матери: «Больше в „курзал“ не ходи…» Мать сказала это строго, но тут же как-то смутилась.
В тот вечер я пошел к Зиновию Александровичу. Он был ужасно взволнован и расстроен: Джулия куда-то исчезла. Зиновий Александрович взял маленький фонарик, похожий на стеклянный домик с укрепленной внутри свечкой, и мы пошли по соседним дворам искать беглянку. Мы нашли ее совсем истерзанной в пятом или шестом дворе от дома Зиновия Александровича. Морда, руки, грудь были исцарапаны в клочья.
— Это кошка, — сказал Зиновий Александрович. — Вот ведь инстинкт материнства, ничего не поделаешь…
Оказывается, Джулия не могла спокойно видеть котенка. Ей, вероятно, казалось, что этот маленький комочек и есть ее собственный детеныш. Она прижимала его к своей груди, носила на руках, старательно обкусывала коготки на его лапках, если он начинал царапаться, а когда привлеченная жалобным мяуканьем появлялась кошка-мать, вступала с нею в "смертный бой. Мы принесли Джулию и отдали ее тете Паше. А я пошел домой, со страхом думая, что скажет мать. «Ты понимаешь, мама, — в тысячный раз повторял я про себя. — Это же инстинкт материнства. Как хорошо, что мы нашли Джулию. Прости, что я так поздно».