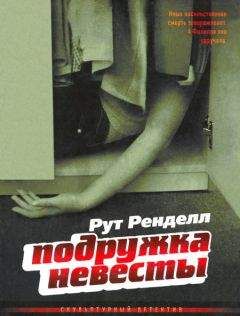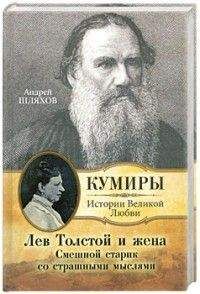Андрей Щупов - Поезд Ноя
— Жабер? — Павел Матвеевич усмехнулся.
— Ну жабров, какая разница? Я вам не филолог, чтобы все знать. Только эти твари воздухом дышат, понятно? И среди акул не плавают.
— Есть еще морские крокодилы.
— Они тоже посреди океана не плавают. Только близ рек и побережий.
— Чего же он тогда не выныривает? — Мацис посмотрел на старика возмущенно. — Во-Ганг его ждет там, понимаешь, а ты говоришь — недельку!
— Погоди! — полковник ощутил смутное беспокойство. В памяти зашебуршилось давно слышанное — о заповедной штольне, о способности крокодилов задерживать дыхание, о прочей чепухе. — Давай-ка подробнее и с самого начала.
Павел Матвеевич стянул с себя вязанную шапочку, бросил на стол. Возбужденно взъерошил волосы. Он и сам еще не понимал причины своего волнения, но что-то маячило на горизонте — что-то, может быть, очень важное, и он чувствовал, что спешить не следует, дабы важное это не спугнуть, как того же крокодила.
— Так что у нас там с подвалом, дед? — он взглянул в серенькие глаза станционного смотрителя.
— Да ничего. Все в образцово-показательном!
— Ты, дед, на нас не злись, сам видел, какая каша тут бурлила. Когда было разбираться, кто свой, кто чужой.
— Могли бы и разобраться! По-человечески!
— Вот я и пытаюсь. А ты помоги.
— Так я же не отказываюсь. Только все равно не поверите.
— Во что не поверим? В штольню пуритов? Так это действительно бред. А вот подвал… С подвалом — сложнее. Откуда там взяться аллигаторам?
— Вот и я у спрашиваю, откуда? — старичок хитро прищурился. — Либо сами догадаетесь, либо и толковать больше не о чем. Вы же меня чокнутым объявите и к стенке следом за Радеком и Митькой поставите.
— Не поставим, слово даю! Мы ведь уже поняли, кто есть кто.
— Поняли они, как же!..
— Так откуда аллигаторы, дед?
— Я уже сказал, с суши. Они на бережку обычно греются, под солнышком. А за добычей в воду ползут.
— Так… И где же твоя суша располагается? — Павел Матвеевич неожиданно ощутил, что начинает обильно потеть. Голова становилась мокрой, словно его сунули в парильное отделение.
— Это уж я не знаю, но только где-то, верно, есть. Может, даже совсем близко. Пуриты считали, что под водой.
— Во, дают! — фыркнул Мацис. — Какая ж там под водой суша? Там — дно!
— Вот и я им про это говорил: дно, мол, там. А они мне объяснили, что со спутников землю тридцать три раза успели просветить насквозь. Потому и рванули из космоса назад. Нет ведь там никого. Молчат станции. Потому как рассмотрели, где и что. Поезда, мол, поездами, а суша — сушей.
— Ничего не понимаю! — честно признался Мацис. Полковник задумчиво продолжал глядеть на «языка».
Застучали шаги, дверь распахнулась. Майор Рушников, отряхивая с капюшона воду, сумрачно доложил:
— Трупы убрали и, кажется, вовремя. Литерный на подходе. Просили передать поздравления. Все довольнехоньки!
— У них есть на это причины.
Майор подсел к Мацису, устало разбросал по спинке дивана руки.
— Сказали, что хотели бы остановиться минут на десять-пятнадцать. Что-то там у них с буксами. Обещали управиться побыстрее.
Полковник взглянул на смотрителя.
— Как тут у тебя с остановками? Держат еще опоры?
— Покуда держали. Один-то состав — еще не страшно.
— Вот и ладушки! — полковник вздохнул. — Тогда вернемся к нашим баранам…
— Каким еще баранам? — с подозрением спросил Рушников.
— То бишь, аллигаторам. У нас тут, майор, интереснейшая темочка проклюнулась! Можешь поучаствовать в беседе. Если, конечно, есть желание…
* * *— Почему вы пьете? — Мальвина смотрела на него в упор. — Нет, правда, — почему?
Простой детский вопрос, ответить на который вряд ли представлялось возможным. Детские вопросы вообще ставят в тупик. Ибо от частокола взрослых условностей возвращают к главному. А потому особенно тяжело было глядеть девчушке в глаза. Так и видился он вчерашний — багроволицый, слюнявый, с косящими зрачками, блудливыми ручищами. Ей бы, по логике вещей, презирать его, а она сидит рядом, пробует разобраться в чужих бедах. Золотой ребенок! Или, может быть, одинокий? Зачем ей та же собачка? Давно известно, удел всех женщин-одиночек — заводить домашнюю живность. Кошечка вместо ребенка, собачка вместо друга. Домашнее животное, домашний приятель… Впрочем, сейчас и домов-то нет. Вагонная жизнь, вагонное одиночество…
— Не знаю, — Егор глотнул чай и обжегся. — Все пьют, и я не отстаю.
— А почему все пьют?
Он взял хлебную корочку, растерянно помял в пальцах. Пьяные рассуждения насчет пользы опьянения уже не казались здравыми и убеждающими.
— Ну… У каждого, наверное, свои Сцилла с Харибдой, а я… Я, наверное, просто размазня. Жаль себя — вот и пью. Глажу таким вот пакостным образом себя по головке. Утешаю.
— Горлик говорил, что вы… — Мальвина смутилась. — Будто вы пропили свой талант. Могли написать что-то очень великое, но не не написали.
— Если бы мог, давно написал. Только вот не пишется отчего-то. — Егор вздохнул. — А Горлик — славная душа, всех щадит и нахваливает. Вполне возможно, он и для потомков труды наши переписывает по этой самой причине. Слава-то после смерти — штука иллюзорная, мало кого греет, а он не ленится. Толстого почти всего успел перекатать, «Поединок» Куприна, моего «Бродягу».
— А зачем?
— Чтобы запечатать в титановый контейнер и сбросить в океан.
— Значит, он добрый и трудолюбивый?
— Точно! Добрый и трудолюбивый, — Егор покривил губы. — В отличие от нас разгильдяев. Потому как мы большей частью — лодыри и нытики. Не достает сил даже на самое малое. Потому и врем на всех углах, выдумываем для окружающих веские причины. Только причина, если разобраться, — одна-единственная… — Егор споткнулся. Мысль, еще мгновение назад казавшаяся столь ясной и отчетливой, вдруг расплылась в блеклую многолучевую кляксу. Все равно как тушь на черных брюках — не промокнуть и не отцарапать. Он тряхнул головой. Хмель еще бродил в крови, терзал нейроны, порождая сиюминутные видения.
— Собственно, я много, чего написал, — пробормотал он. — Гору всякой чуши. На проглот. Вроде сосисок. Сложить все тиражи кучей — пирамида похлеще египетской выйдет. Честное слово!
— Не понимаю, — Мальвина обезоруживающе улыбнулась, и Егор подумал, что только последний недоумок может вываливать на ребенка подобные проблемы. Хотя, и тут, если задуматься, начинались форменные дебри. Потому что так оно по жизни и выходит. Именно на детские спины взваливается весь хлам родительских разборок и взрослых неурядиц. Мы-то хлебаем да в носу ковыряем, а они, бедные, спрашивают. То есть, может, это даже не они спрашивают, а НЕКТО через них. Все те же вековечные вопросы к нашим душам. Бег по кругу без малейших надежд. Или, может, с одной крохотной, подсвечивающей китайским фонариком с неба. Поскольку все-таки спрашивают. А вот когда перестанут спрашивать, когда с пеленок младенческих будут угрюмо молчать, тогда и грянет начало конца. И не в потопе даже дело, не в поездах, — в тех, кто не устает удивляться и задавать вопросы, потому что в действительности — это вопросы Вселенной. Вопросы к созревшим поколениям безумцев.