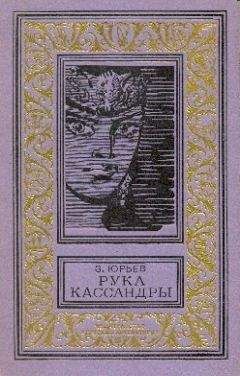Зиновий Юрьев - Финансист на четвереньках (сборник)
Машина свернула с шоссе на узкую боковую дорогу и, попискивая рессорами, направилась к гряде невысоких плавных холмов.
— Клер, — сказал Дэвид, глядя на ее смуглые руки, лежавшие на руле, — ты ведь до сих пор не сказала мне, куда мы едем. И даже в мыслях ты скрываешь это от меня…
Клер посмотрела на него. Синяк под глазом Дэвида был изжелта-зеленым. «Боже, — подумала она, — сделай так, чтобы нам было хорошо!.. Прошу тебя, боже!..»
Дэвид положил ей руку на плечо. Он хотел улыбнуться, но почувствовал боль в разбитой губе. Минитмены сенатора не зря отказывают себе по субботам в гольфе или партии-другой в кегли. Что-что, а обрабатывать физиономии они научились. Чем не политическая программа? Для хорошего политика важно не столько ловко говорить самому, сколько ловко заткнуть рот другому. Примеров в истории сколько угодно. Он представил себе, как сенатор с клинообразной головой на одеревеневшей шее выступает сейчас, должно быть, с неподдельным пафосом: «Наш священный патриотизм… Защита свободы…» Настоящие филантропы! Они готовы бесплатно раздавать всем свой патриотизм, даже вбивать его вместе с зубами…
Машина последний раз качнулась и остановилась. Дэвид открыл глаза.
— Смотри, — сказала Клер, показывая на небольшой домик в лощинке, — я здесь родилась. Мать еще жива. Я ей ничего не сообщила. Я не знала, захочешь ли ты…
— Какая разница, Клер… Ты пока переговори с ней, а я подойду потом, позже. Прости меня, Клер. Я никого не хочу видеть. Не могу. Не могу слышать эти бесконечные копошащиеся мыслишки, будь они прокляты! Будь проклята мысль, если она лжива!
— Дэвид…
— Не могу, понимаешь, не могу я больше. Я ловлю себя на том, что мечтаю о вымершем мире. Ни одного человека, ни одной мысли. Пустые, чистые города, пустые, чистые дома, поезда, машины… Никого. И мы идем с тобой, и сквозь асфальт начинает прорастать трава, и в открытые окна машин влетают птицы. И я слушаю, слушаю — и ни одной мысли. Иди, Клер.
— Дэвид… ты придешь?
— Приду.
Дэвид растянулся на траве. Теплый ветерок лениво скатывался с холма. Он нес с собой запах приближающегося вечера, травы и нагретой земли. На мгновение ему показалось, что сейчас он услышит мысли земли и зелени — спокойные, честные мысли о дожде, об облаках, о скорой осени. Но все вокруг молчало в сытом, удовлетворенном покое летнего вечера, и казино «Тропикана», и капитан Фитцджеральд, и минитмены, и сенатор Трумонд, и сам предсказатель папского двора Габриэль Росси начинали казаться Дэвиду чудовищной химерой.
Он задремал, а когда открыл глаза, солнце уже садилось за пологий холм. Он оглянулся. Вдалеке, на той дороге, по которой они приехали, ярко вспыхнул зайчик. Должно быть, машина. Сейчас она покажется из-за поворота. Но зайчик не двигался. Машина стояла.
«Следят, — равнодушно подумал Дэвид. — В конце концов, какая разница, кто там сейчас смотрит на меня в бинокль, Донахью или Фитцджеральд?.. Круг замкнулся».
Сутулясь, он побрел к домику в лощине.
ФИНАНСИСТ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ
1. Предложение
Всю свою жизнь Фрэнк Джилберт Гроппер меньше всего был расположен к философскому восприятию жизни. Для этого у него было слишком мало времени и слишком много денег. Теперь же, в эти теплые майские дни, все изменилось. Впрочем, времени, строго говоря, у него было еще меньше, чем когда-либо, а денег — больше. Но изменился масштаб времени и покупательная способность его денег.
Гроппер закрыл глаза и откинулся в кресле-качалке. Солнечные лучи, проходя сквозь листву деревьев, трепетали на его лице. Он вспомнил последний разговор с профессором Клеем из клиники Мэйо. Профессор ловил очками в тяжелой роговой оправе блики от яркой лампы и за этими бликами прятал глаза. В голосе его звучал хорошо поставленный оптимизм.
— Знаете, профессор, — перебил его Гроппер, — в конце концов откровенность — такой же товар, как подтяжки или политические взгляды. Согласен, что товар более редкий, особенно в наше время, и соответственно более дорогой, особенно когда на него есть покупатель. Но я ведь не торгуюсь из-за гонорара. Прошу вас ничего не скрывать от меня. В моей профессии предпочитают иметь дело с фактами, а не с надеждами, если даже надежда предпочтительнее.
— Тяжело выносить приговор, — ответил профессор, — когда знаешь, что он окончательный и апелляция бессмысленна… Да и к кому апеллировать? Безнадежный рак желудка, метастазы… Может быть, месяц, может быть, два.
Он поднял рентгеновский снимок. Ноготь, указывающий на серое пятно, был коротко острижен и наманикюрен. «Перст божий с холеными ногтями, — подумал Гроппер. — Впрочем, какая разница осужденному, чья именно рука подписывает приговор. Чисто секретарская работа. Вердикт вынесен в гораздо более высоких инстанциях».
— Я вам сочувствую, — улыбнулся он профессору, — но мы с вами живем не в древнем Китае. Там, говорят, врачам платили, только пока пациенты были здоровы. Мы же, слава богу, верим в прогресс и платим врачам больше всего именно тогда, когда не можем выздороветь…
Гроппер открыл глаза. Клетчатый шотландский плед сполз с колен, и ему стало зябко. Холод проникал в него не снаружи, он шел откуда-то изнутри. Можно было храбриться у профессора Клея — блеф всегда был его оружием, — но он боялся смерти и знал, что скоро умрет. Он привык к диаграммам и графикам, и серое пятно на рентгеновском снимке обладало реальностью агонии. Вернее, это был не страх, а невыносимо жгучая досада. Он не жалел своего тела. В шестьдесят восемь лет оно напоминало ему старый, много раз ремонтированный автомобиль — еще передвигается, но удовольствия от езды не получаешь. Он уже давно устал прислушиваться к зловещим стукам и хрипам в моторе — синкопированному аккомпанементу старости.
Но страшно было подумать, что и водитель — его голова, его мозг — тоже попадет на свалку вместе с разбитым кузовом. Всю жизнь его мозг работал, как изумительная вычислительная машина. Он вводил в нее понятие «тысяча долларов», и машина выбрасывала точный рецепт, как превратить его в две тысячи. В двадцать девятом году его голова, подобно невероятно чувствительному сейсмографу, ощутила первые микроскопические толчки приближавшегося биржевого краха, и «черную пятницу» он встретил во всеоружии, надежно превратив все ценные бумаги в наличность.
Он никогда бы не смог точно определить, что это были за толчки, по он обладал способностью чувствовать приближающуюся опасность руками, спиной, всем телом, всем своим существом. Наверное, когда-то, тысяч пятьдесят лет тому назад, так определял крадущуюся во тьме леса угрозу его какой-нибудь далекий предок. За эти пятьдесят тысяч лет охотничью палицу сменил телефон, а медвежью шкуру — дакроновый костюм. Но рефлексы остались теми же…