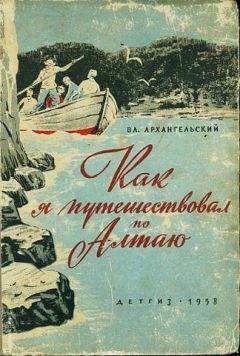Виктор Колупаев - Фирменный поезд «Фомич»
Иван ничего не сказал, протиснулся между людьми и пошел по коридору в сторону купе проводниц.
— Вот и пусть ходит ищет себе в другом месте.
Никто не бросился вслед за Иваном…
25
— Что еще нужно сделать? — спросил Степан Матвеевич.
— Ничего, — буркнул Семен. Он вдруг ни с того ни с сего сник, увял, постарел.
Но он все же шагнул к макету, поднял ногу прямо в ботинке, опустил ее в крышу, и снова, как в молоко, вошла она туда, потом вторую, погрузился по пояс, исчез весь, даже не взглянув на нас.
— Все равно ничего не понял, — сказал Валерка.
— Я тоже, — сказал Степан Матвеевич.
Ничего не понял и я. Никакого дополнительного секрета и фокуса здесь не было. Семен исчез, и все.
— И этот навек, — прошептал начальник поезда.
Но Семен исчез не навек. Голова его вынырнула из крыши даже нетреснувшего и нераскрывшегося макета, потом плечи, туловище, руки, ноги. Вот он спрыгнул на пол и преспокойно уселся на свое место.
— Демонстрационный зал там, моды показывают.
И все.
— Так в чем же дело? — устало спросил Степан Матвеевич.
Никто не знал. Валерка по своей инициативе снова подошел к макету и попытался влезть в него. Нет. Ничего у него не вышло.
— В чем дело, Семен? — умоляюще проговорил Степан Матвеевич. — Ведь для дела, для спасения…
— Не знаю. Я прохожу, а вы почему-то нет. Так он устроен.
Семен не врал. Да и для чего ему было сейчас врать? Просто макет впускал в себя только его и Валерия Михайловича.
— Вы точно не знаете?
— Ничего я не знаю. Я думал, он всех пускает, кто хочет.
Хорошо заметная растерянность поселилась среди нас. Ну работай, голова, работай! Что ж уж, совсем безвыходное положение, что ли?
— Надо знать, для чего этот макет был создан, — сказал Федор. — У него какое-то одно-единственное назначение.
— Что значит для чего? — не понял я.
— Ну тот, Афиноген-то, для чего его сделал? И почему бабуся не взяла его с собой?
— Дарственная, — пробормотал Семен.
Его никто не слушал. При чем тут дарственная? Никакой дарственной не было. Бабуся совсем не хотела везти этот чемодан своей родственнице и ее дочери, потому что у них и так вся жизнь в тряпках. Вроде злого подарка был этот чемодан. И что имел в виду Афиноген, когда создавал эту чудовищную игрушку?
А поезд отстукивал свою нескончаемую песню. Стандартно и ритмично вздрагивали колеса вагона. Мимо проносились столбы электропередачи, отдельные группки деревьев и озерца, уже едва различимые в начинающей сгущаться темноте.
Наступала ночь. А жара все не спадала. Правда, не так уже дышало жаром от окон. Исправная вентиляция в какой-нибудь час превратила бы это пекло в нормальную для человека атмосферу. Но вентиляция не работала с самого Фомска.
Все это проносилось у меня в голове каким-то вторым слоем, скорее как реакция на органы чувств, а не как сознательное размышление. А думал я о бабусе. Какой-то секрет был в этом макете, придуманный специально для двух любителей всяких модных тряпок.
Минуты две длилось это нестерпимое молчание. Даже Семен, кажется, начал понимать что-то. Да и поуспокоился он после ухода Ивана. Вот это закрутилось в нашем фирменном поезде! Однако что же имел в виду этот неудавшийся ученый, непризнанный Афиноген? Ведь те, для кого он сработал эту игрушку, могли, конечно, входить в нее беспрепятственно. Иначе для чего все это? Тут сомнений быть не может. Они могли входить. Семен и Валерий Михайлович тоже. Значит, у них есть что-то общее. Но что? Любовь к тряпкам? Это уже, наверное, ближе… Но вряд ли Семен страдал страстью к тряпкам как к таковым. Значит, надо еще ближе. Страсть, страсть. Стяжательство. Ага! Вот оно! Не просто любовь, а страсть к стяжательству, безмерное престижное потребление! Всего, что только можно отхватить. И ковры, и заграничные туфли, и книги, которые ровными безмолвными рядами стоят за стеклами полированных шкафов, и автомобили, на которых пять-десять раз в году ездят на речку. Но престиж, престиж! Я имею, я обладаю, у меня лучше, я смог, я изворотливее, я умею жить!!! А вы нет…
Для меня или для Ивана такое было невозможно. Вечная нехватка денег. Если и книги, то для работы и для души, не все подряд, а строго выборочно, хотя и после этого комнату в основном населяют только книги. Никаких эмоций при виде купленного приятелем автомобиля, разве что легкое удивление и чуть более глубокое непонимание.
Стоп! Значит, престижное потребление… стяжательство. Хотя стяжательство — это грубо и обидно.
— Я вот что думаю, — сказал я. — Этот макет впускает в себя только тех, у кого имеется страсть к безудержному потреблению, к потреблению престижному, когда это потребление становится уже единственным смыслом жизни. Только для таких этот макет и создан.
Семен не полез в бутылку, даже не обиделся. Я полагаю, что моя мысль и не была для него оскорбительной. Скорее она могла вызвать в нем только гордость за самого себя. Вот ведь, сам додумался! Никто не учил… Жизнь разве что научила! Так от жизни брать уроки не стыдно.
— Сами посудите, — воодушевился я. — Для кого была сработана эта игрушка-чертовщинка? Для жены ученого Коли и его дочери, которые, по словам бабуси, всю жизнь свою видят только в тряпках. Семен вот прошел безболезненно…
— Я не крал, между прочим… — спокойно заметил Семен.
— Я сейчас не про это. Валерий Михайлович тоже. Как написано в рассказе у Федора…
— Ну, рассказ тут, наверное, ни при чем, — остановил меня Степан Матвеевич.
— А вы его еще не читали. Хотя взаимоотношения Валерия Михайловича с вещами, может, и заметили. А в рассказе…
— Не надо про рассказ, — попросил Степан Матвеевич. — Тут, кажется, и без рассказа все становится ясным.
— В рассказах моих неправды быть не может, — подал свой голос писатель Федор. — Если я что написал, значит, так оно и есть на самом деле. Валерий Михайлович может подтвердить. Да и в Фомске многие. Было у меня несколько рассказов с трагическим концом. Так ведь эти люди и в самом деле плохо кончили. Я потом уже и не…
— И все-таки с рассказами давайте повременим, — попросил Степан Матвеевич. — Дело к ночи, а у нас еще ничего не сделано.
Писатель Федор обиженно замолчал. Не за себя он обиделся. Он вообще, как мне казалось, не мог обижаться, если дело касалось его самого, а за свои рассказы, которые если были написаны, то как бы становились самостоятельными сущностями, независимыми от автора и живущими в мире уже по каким-то своим законам, хотя и непонятным, но все же необходимо имеющимся.