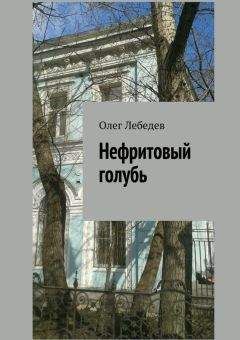Владимир Куличенко - Клуб города N
Я поднялся в комнату и посмотрел на себя в зеркало над рукомойником: лик мой запечатлел горечь, тонкие сизые губы стиснуты, желваки багрятся на скулах, капли влаги окропили лоб, а я еще и еще набрасываю пригоршнями воду, как бы желая захлебнуться в ней. Дверь в комнату приотворена - некому подсматривать за мной, никто не подивится припадку безудержного хохота, что сотрясает мою грудь. Я смеюсь над собой; я смешон и ненавистен себе, и только через полчаса, поуспокоившись, утершись полотенцем, со взлохмаченной шевелюрой, спускаюсь с пустым коробком в дворницкую за спичками. Странно, все двери отворены для меня, в дворницкой сумрачно, душно, дырявая кошма на лежаке, рваная занавесь, за которой прятались дети Ермила, осколок зеркала на выступе печи, а вот и спички в печном закопченном поде.
Я боязливо беру рассохшийся коробок и ощущаю легкое поглаживание по своей руке. Я отпрянул, стремглав взлетел по лестнице, ворвался в комнату и запер дверь на щеколду. Меня никто не преследовал. Или это я сам себя преследую?
Уже долгое время не слышалось шагов в подъезде. Я наблюдал в окне пристань, пароходы, баржи, грузчиков, птиц, изогнутую клином степь, слышал голоса прохожих на улице и разом с тем ощущал кожей спины леденящий провал пропасти за собой, за дверью.
Ночью я сам отправился на поиск андрогинов. Не ведаю, за какой надобностью взял с собой скальпель и цепко сжимал его плоскую рукоять в ладони, покуда не остановился у крыльца того особняка, что мне показал Трубников. Окна оставались непроницаемо черны. Я дернул шнур колокольца и затем в тревожном нетерпении стукнул носком туфли в дверь. Никто не открыл. Тогда я прошел по двору к флигелю, но там меня опередили. На крыльце с поднятой над плечом лампой возник тот самый мещанин в белой рубахе и кальсонах. В другой руке он сжимал плеть:
- По ком пожаловали, барин? - спросил он глуховатым, простуженным голосом.
Я показал на особняк и нарочито пьяно, развязно протянул:
- Охота должок отдать.
- Их нетути, - сообщил мужик. - В другой день приходите.
Едва он произнес "их нетути", как затеплилось одно из нижних окон. Я сделал вид, что ухожу, притворил за собой калитку, отошел и залег в бурьяне. Дождавшись, когда мужик скроется, я перемахнул через изгородь. Дрожа, я припал к стеклу - за столом в комнате, подле лампы с алым абажуром, склонился некий монгол с обнаженным невероятно мускулистым торсом. Сказать, что лицо этого господина было уродливо, было бы упрощением - кто, когда и с какой целью истязал его, измывался и лютовал над ним? Что за изувер прикладывал пыточные орудия и с дьявольским сладострастием калечил черты, сотворенные природой? Ухо свисало клочьями, по щеке и предплечью будто бы прошлись бороной, куски вывороченного багрового мяса образовывали складки губ, зрачки в разрезе век горели зло, дерзко. Монгол раскладывал перед собой листы бумаги, быстро выводил на них пером, прочитывал написанное и самодовольно роготал. Тотчас мне вспомнились письма, что три года кряду настигали меня.
Я уже вознамерился отойти от окна, как за спиной монгола возникла миловидная девочка-подросток с распущенными волосами до плеч, в коротком платье и в пуантах балерины. В самозабвенном танце она кружилась по комнате, покуда монгол своими могучими, как будто обтянутыми не кожей, а древесной корой, ручищами не подхватил ее и не усадил на колени. Она вздохнула как бы с сожалением, расставаясь с тем восхитительным чувством, всколыхнувшим и вознесшим ее, обняла шею монгола, приникла стыдливо к нему, в то время как он уже жадно целовал ее оголенные плечи. Вскоре и она ответно и робко прикоснулась к его лбу... Я стоял подле крыльца, и удушливый запах черемухи терзал меня. Мне было дурственно и от виденного, я не верил глазам, лицезрея, как заструилась багровая кровь по челу монгола, как белоснежное платье его подружки замаралось. Девочка в порыве экстаза сорвала его с себя и вновь приникла, дрожа, к монголу, который мял ее с мучительным и болезненным упоением, принуждая ее блаженно постанывать.
...Виденная сцена еще не раз возникала в моей памяти, и хотя я стремился дольше бывать на людях, допоздна засиживался в училище, работал над конспектами лекций, желая уйти от себя, но не мог избавиться от преследовавшего ощущения предрешенности собственной судьбы, словно вся моя жизнь являлась формальностью, ожиданием чего-то сверхъестественного. Это ожидание не было ни надеждой, ни чаянием помощи, - скорей, ожиданием высшего приговора.
Я помню, как в полдень ветер ворвался в город со степи, принеся тучи пыли, сора, застилая мостовую ковылем и колючками, поднимая на дыбы лошадей и вызывая бешеную ярость извозчиков. Соборный пономарь исступленно бил в колокола, созывая к обедне монахов, а на реке разудало гуляли волны, разбиваясь о пристань, подбрасывая кверху баркас, на корме которого стояла девушка в мокром холстинковом платье. Ветер был настолько силен, что расплел ее косу и трепал волосы за чуть сутулыми плечами, а девушка - верно, она была дочерью рыбака, - хохотала, возбужденно кричала своим товарищам, что налегли на рею паруса. И она, эта неизвестная мне юная рыбачка, представлялась безумно одинокой под этим хмурым небом.
____________
...Я пришел в театральный двор и присел на опрокинутое бутафорское мельничное колесо в ожидании Юлии. Она ненадолго задержалась в мастерской.
- Мне страшно, - признался я. - Мне чудится, что кто-то преследует меня.
- Николай выбрал и полюбил вас, и с той поры он неотступно с вами. Знайте, - вы уже не принадлежите себе. Он станет вашей частью, а вы будете в некоей мере им - до счастливого мига вознесения.
- Кто он такой, этот Николай? - хмуро сказал я.
- В прежней жизни он был студентом, тяжело болел, много страдал. Он пришел к нам, и душа его очистилась.
- Слушая тебя, я в растерянности и не знаю, как отнестись к твоим словам - возмущаться, радоваться ли, негодовать или остаться бесстрастным? Во всяком случае, я против того, чтобы кто-то посягал на мою свободу.
- Николай полагает, что принесет вам абсолютную свободу - ту, которую невозможно познать живущим на земле.
- В чем же выражается эта абсолютная свобода? - саркастически вырвалось у меня. - По моему разумению, жизнь - это первопуток, по которому человек пробирается в мучениях.
- Но векторы человеческих дорог обращены в разные стороны, большей частью в никуда... И отчего вы обращаетесь ко мне то на "вы", то на ты? вдруг добавила она.
- Потому, что ты становишься то близкой, то далекой.
Она закусила губу с силой, словно я доставил ей боль этим своим признанием, простонала и замедленно опустилась на пол мастерской. Я попытался поднять ее, чтобы отнести на лежанку, но ее тело одеревенело, стало невероятно тяжело, рука не сгибалась в локте. В углу оскалилась и зашипела кошка.