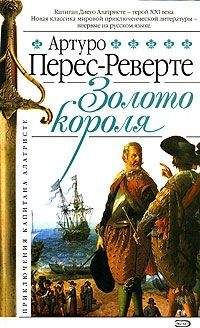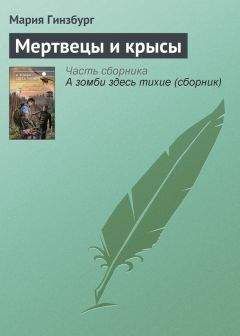Эрнст Бутин - Лицом к лицу
— Ты хоть сейчас извинись перед Владькой.
— Без вас знаю, что делать, — огрызнулся Юра. Смутился. — Простите. Но, в самом деле, зачем вы все время поучаете?
«Ого, прощения попросил. С ума сойти можно!» — обрадовался Юрий Иванович, но виду не подал.
— Ты еще не слышал, как я поучаю, — буркнул сердито. — И не дай бог услышать.
— Ладно, я скоро, — Юра повернул кольцо калитки, скрылся во дворе.
А Юрий Иванович перешел на другую сторону, прислонился к забору и уже более внимательно оглядел жилище Владьки. Вспомнился утренний разговор с Ларисой-женщиной, ее шуточки, что вот, мол, в честь Бодрова, глядишь, улицы называть станут, и подумал без зависти, что со временем этот проулок действительно будет имени Борзенкова. Мемориальную-то доску наверняка когда-нибудь прикрепят на этой халабуде, экскурсанты будут приходить в квартиру, которая окажется почему-то на втором этаже, цокать языками, переступив порог отдельной комнаты будущего академика — «Сразу видно, что жил гений: какие редкие книги, какие сложные приборы!» — осматривать мебель, снесенную со всего города; пионеры школы имени Борзенкова надраят парту Владислава Николаевича до блеска, вытирая ежедневно пыль, — парта, скорей всего, окажется не та: без царапинки, сияющая лаком. Лучшие, а значит, самые прилежные и воспитанные дети будут бороться за право сидеть на ней, и никогда им не придет в голову, что Владька ой как редко выглядел ангелом, ой как часто получал нагоняи за поведение. Дряхлые старички и старушки на сборах и собраниях примутся рассказывать о том, какой необыкновенно милый, послушный, исполнительный мальчик был товарищ Борзенков, хотя никогда не знали его ребенком…
На улице Ленина разом зажглись все фонари, и полумрак, отброшенный яркими желтыми конусами света, уплотнился до темноты. Юрий Иванович повернул голову. По тротуарам главной улицы все так же степенно проплывали габардиновые и шелковые плащи. В Староновске никогда не было никакой промышленности, за исключением ликеро-водочного, пивного заводов и нескольких артелей, поэтому фланирующая элита состояла из служащих всяческих «загот» — «скот», «зерно», «сырье» — и городской администрации. Сколько помнит себя Юрий Иванович, они всегда поражали его безмятежно-самоуверенными лицами, которые прямо-таки излучали достоинство и значительность. В детстве Юра страстно хотел стать одним из этих людей; подрастая, уже знал, что займет место среди городского начальства; взрослея, был уверен, что пойдет дальше и выше, но уважение, при котором хочется снять шляпу, прижать ее к груди и опустить очи долу, к районному избранному обществу сохранил.
Теперь же, побывав в будущем, зная, почем сотня гребешков, он с неприязнью наблюдал за местным чиновничеством и подумал с непонятным злорадством: вот эти люди и не подозревают, что рядом, в подвальной комнатенке, сидит перед матерью и умоляюще глядит на нее очкастый мальчишка, который через десятка два лет растормошит Староновск, принесет ему мировую известность. И эти важные, уверенные в незыблемости сущего, местные значительные лица будут только покряхтывать, когда неизвестный им земляк Борзенков взбаламутит тихую благостность Староновска, швырнет, словно камень в болото, в вялые и привычные заботы горожан — о женитьбах, сметах, дефиците в магазинах, отчетности перед вышестоящими — новые, непредставимые, дикие идеи, за которые его почему-то вознесут и за которые они, отцы города, ничего не понимая в делах и проблемах товарища Борзенкова, должны будут восхищаться, восторгаться, гордиться им.
«Кажется, я стал совсем уж злым и несправедливым, — недовольно поморщился Юрии Иванович. — Люди как люди…»
Калитка скрипнула, и он похвалил себя за то, что убрался от ворот, — Владьку вышла провожать мать.
— Я понимаю вас, Юра, и все-таки мне кажется это несколько, несколько… — она так и не нашла нужного слова. — Ведь будет же выпускной вечер, для чего же эта — как ее назвать? — вечеринка?
Голос был встревоженный, и хотя мать Владьки, женщина интеллигентная, старалась следить за интонациями, слышно было, что она недовольна и огорчена.
— Ну, мама, ну договорились же, — стыдясь за нее, устало сказал Владька. — Выпускной — это официально, а тут — в последний раз вместе.
Он вышел почему-то с велосипедом, и Юрий Иванович, поднатужив память, вспомнил, что именно в конце десятого класса Владька сварганил какую-то сверхмощную динамо-машину, которая давала свет, как прожектор.
— Хорошо, Владислав, хорошо, больше не буду.
— Я обещаю вам, что все будет пристойно, — с достоинством заверил Юра, и Юрий Иванович насторожился: голос опять был бархатистый, и даже с покровительственными нотками.
— Я верю вам, Юра. Вы такой прекрасный товарищ моему сыну.
У Юры хватило ума не окликнуть Юрия Ивановича, и тот, выждав, когда мать Владьки уйдет, неспешно направился за приятелями. Они, поджидая, остановились на улице Ленина. Счастливый Владька, смущенно поглядывая на Юрия Ивановича, улыбнулся, дернуя головой, изображая поклон, — поздоровался.
— Значит, договорились? Я покатил. Ты обязательно приходи, а то я не знаю, что там делать. До свидания, — еще раз дернул головой, прощаясь с Юрием Ивановичем.
Вскочил на велосипед. Электросистема оказалась действительно мощнейшей: габардиновые и шелковые плащи шарахнулись от луча фары — подумали, наверно, что их бесшумно настиг мотоцикл…
— Где вечер? — Юрий Иванович искоса глянул на довольное лицо Юры, — У Шеломовых? У Лидки?
— Будто не знаете.
— Конечно, нат. Это для тебя кажется таким значительным — последний раз вместе с классом, а я… — Юрий Иванович увидел, как потускнело лицо собеседника. Хотел извиниться, сгладить впечатление, но решил остаться до конца честным: ведь он-то на эту вечеринку не ходил, не позвали. — А я, если помнишь, был приглашен к Тонечке и, если помнишь свое настроение до встречи со мной, быть с классом и не собирался.
— Помню, — Юра совсем перестал улыбаться, даже натянуто, — У Лидки встречаемся.
— Можно проводить тебя?
— Я не пойду! — отрубил Юра.
— Не изрекай, а главное — не делай глупостей. Ты обещал Владьке, обещал его матери. Старайся не быть трепачом, — Юрий Иванович говорил вяло, будто нехотя. Помолчал и добавил с неожиданной для самого себя грустью: — Кроме того, как ни крути, вы встречаетесь действительно в последний раз. Десять лет жили, худо-бедно, но вместе… Это будет вспоминаться, поверь, — и убоявшись, что выглядит или нравоучительным, или сентиментально-смешным, закончил грубо: — Не ломайся! Я не хочу, чтобы ты ради меня корчил из себя жертву.