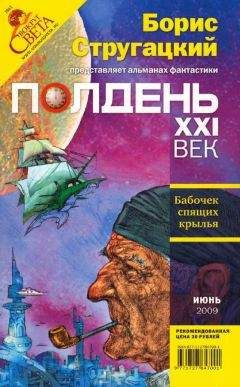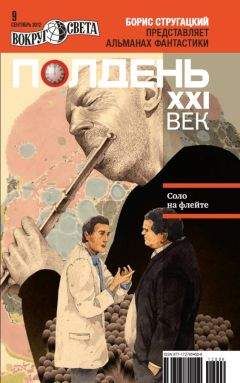Николай Романецкий - Полдень XXI век 2009 № 03
— Тоже, небось, художник.
— Типа того. И эти его художества у меня вот здесь уже! Но я до него доберусь. Я его уже, практически, вычислил. У Владимирской, где-то под крышей, колокольня видна. Найду!
— Найти не проблема. Дальше что?
— Не знаю что. Но я это радио отключу! Любым способом!
— Миску расколешь. А что, у них так втыкать палки в рис — тоже как-нибудь называется? «Харакири миске»?
— Нет. Татэбаси. У них, вообще-то, так не положено: означает плохое предзнаменование, но мы еще не Япония. У них всё что-то означает — культура такая, бессловесная. И все всё без слов усекают.
— Ну, так и мы можем. Это, по жизни, правильно, не всё надо говорить. А всё лишнее надо забывать. Поймешь это — и проблемы твои решатся. Не поймешь — их станет больше. Усёк?
— Как говорят японцы, я подумаю об этом.
— Смотри. Тебе жить… Жорка! Запиши на меня. Ну, давай пять, японец. Тонкие у тебя косточки-то. Ешь больше риса: кальций!
Да-а, лапа с гидроусилителем. Если б сжал… Ну, что, долго еще сидеть-то? Человек — сам поток своего времени, и оно может совпадать с внешним, а может разойтись с ним. Известна же такая болезнь — ускоренное старение. А у летаргиков оно замедляется, не стареют по тридцать лет. А проснувшись, наверстывают за год, то есть оно после этого сверхускоряется. Но это всё — органика, скорость физико-химии, а есть и другое, нефизиологическое, как бы нефизическое время. Вот, эти регрессии в прошлые жизни — ведь это значит, что те прошлые времена существуют наряду с нашим, одновременно: они все сосуществуют здесь, где мы, в нас. Во всяком случае, в прошлое есть вход. Только в прошлое? Есть, есть что-то… что-то другое. Альб говорил о каком-то постоянно мерцающем ином, еще одном измерении. Но как-то он в него не рвался. И Шнитке «Фауст-кантату» писать боялся, а певицы потом боялись петь. А Леверкюн у Т.М. почему не боялся? Смелый-то смелый, но не глупый же. Черт знает…
— Натюрлих. Хотя можно было и не беспокоить: вопрос элементарный.
— Это ты?
— Ваш покорный слуга! Посущественней вопросы будут?
— …Да! Я не понимаю, зачем ты вообще к нему являлся.
— А я ему сказал. Столковаться об условиях договора.
— Но ведь договор уже был заключен и уже пять лет как действовал. О чем еще толковать?
— Ну, он же о договоре не знал, поначалу и верить не хотел. Надо было привести в известность. Иначе это не договор, а убийство из-за угла.
— Для темных сил неприемлемо?
— Вот вы всё «темные силы, темные силы», а мы, в отличие от многих ваших, работаем честно, в открытую. И твоего Леверюона мы даже предупредили: «Не влезай, убьет!» Ну, а полез — получай. И знай, что получил. Всё честно, по любым уложеньям.
— Лжешь, как всегда. Ни о чем вы уже не столковывались. Просто явился и объявил ему. Зачем?
— «Лжешь»! Ты, вообще-то, фильтруй немножко. Зачем. Затем! Чтоб знал, что срок отмерен. Что любви не будет. Что все счастье, какое позволено, — в труде. Чтоб жизнь медом не казалась, или, изящно выражаясь, для трагического мироощущения художника. А то всё норовят где-нибудь хапнуть и нажраться. И потом от них ни черта толку не добьешься. Извиняюсь за саморекламу, но у вас это сейчас принято.
— Следишь за рекламой?
— А мы всегда идем в ногу со временем. «Идущие вместе» — украдено у нас: это наше кредо. Так что кипящее масло и прочее варварство ваших средних веков всё там и осталось. Теперь у нас «тефаль» думает о тебе. И только у нас ты оценишь такое попечение по достоинству. С большим нетерпением жду авторов этой рекламы — как и всей прочей; это у нас последний крик: мы их употребляем тем, что они рекламировали. И, между нами говоря, просто понуждать их глотать собственный «креатив» и смотреть, во что они превращаются, — это восторг! Вот настоящая Исправительная колония. «Будь справедлив!» Только у нас и осталась справедливость.
— И микроволновки есть?
— У нас что, забегаловка? Нам спешить некуда. И мы не халтурим, как ваши художники. Все-таки почему они у вас так любят нажираться, а? И до того, что уже никакого от них толку. От зажравшихся — тем более.
— Ну, такие душу, наверное, дешевле продают.
— Да на кой черт мне такие души! До черта у меня таких душ. Извиняюсь. Достали уже. Не занимаюсь я скупкой вторсырья, не мой профиль, понятно?
— Что это у тебя, нервы? У тебя?
— И что ты так удивляешься? Я еще Ивану объяснял: «воплощаюсь, так и принимаю последствия». А с вами дела вести — какие нужны нервы? Ивана-то помнишь? Вроде как общий родственник — иль уже нет? Хотя все вы теперь родственники, Ивана не помнящие. Фаустов вам подавай. Да и сами хоть куда: ложку бросил и — Фауст!
— А зачем надо было писать эту кантату?
— Не по адресу вопрос. Я же говорил, мы ничего не пишем и не создаем. Творить — это дело других. Мы только открываем им слух. А уж они, творцы, слышат Слово и воплощают. Слово-то не наше, да только без нас не услышат. Ну, ладно, на сегодня закончим, у меня еще тьма вызовов. До скорого!
— Опять глючишь?
— A-а? Да. Ничего, теперь уже недолго.
— Так ты что же, заказал?
— Ничего я не заказывал, подсунули, даже не заметил когда.
— Да-а, не ожидал. Да еще и без оплаты — так, баш на баш. Крутой ты стал коммерсант.
— Ну, растем помаленьку… То есть в каком смысле без оплаты? Сам говорил: итадакимасу. Чего ты так смотришь?
— Да нет, ничего. Неужели так сильно достало?
— Не то слово. Даже этот толстый заметил. Во туша, да? Ну, так что, клиент-то твой не пришел? Чего я тогда сижу?
— Да не знаю, чего ты сидишь. Может, сделку обмыть хочешь.
— Какую сделку, ты чего? Жорка, ты, по-моему, переработался, как твои японцы. Давай-ка, мы всю эту сушь побоку и раздавим бутылочку хорошего красного — я заказываю, я тоже твой клиент. Только лучше бы не здесь, а там, у тебя, как в прошлый раз.
— Красного… ну, да, естественно. Нет, извини, дела. Извини. Пойду.
— Да ладно, я все понимаю: гири долга. Который платежом красен. Ну, как говорится, всё было прекрасно — гочисосама! Верно, сэнсэй?
— Да не совсем… не совсем.
Почему так расплодилась у нас всякая чертовщина, сказки, фэнтэзи, боевики с бредовым уклоном? «Примитивизация культурного ландшафта в теряющей свой смысл стране». А потом? Снова искать смысл? Ну, значит, у нас большое будущее, мы в начале долгого пути. Как это скучно, думать про долгий путь! А где же место подвигу? Оно еще есть? Как сказать… Вот, писали, швейцарец какой-то попал в наш городок, ужаснулся бедности и грязи, теперь клянчит везде деньги, кормит стариков, школяров, игрушки малышам привозит. Не банкир, не цюрихский гном, просто инженер. Увидел, что голодные дети, старики. Просто человек. Чокнутый, конечно, детей пожалел. А дети запомнят. Он, может быть, один такой в их жизни и будет — запомнят. Как Митя доктора с его фунтом орехов. И вот уже сто лет с лишним прошло после этих орехов — революции, речи, подвиги, свершения — а дети голодные и старики брошенные. Этот вот подкармливает, чокнутый, в лице что-то от Деточкина. «И теперь плачу, немец, и теперь плачу, божий ты человек!» Gott der heilige Geist…