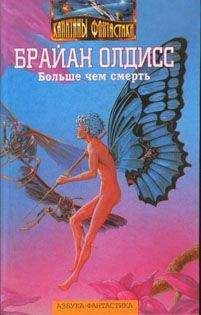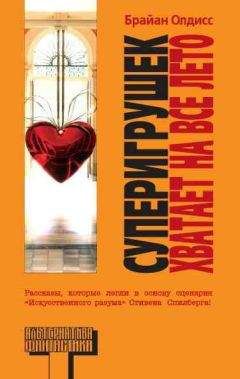Брайан Олдисс - Освобожденный Франкенштейн
Я отнес Виктора — и, должен сознаться, твоего поэта тоже — к разряду либеральных доброжелателей-вредителей. Это неудержимое, хлопотливое желание улучшить мир! «Взгляни, куда это заводит нас!» — вот что я хотел сказать своими речами в тот вечер на вилле Диодати.
Я был слишком наивен. Теперь, запертый в убогую камеру, лишенный всяких гарантий на что-либо хорошее в будущем, я отчетливо это вижу. Когда в этой тюрьме находилась Жюстина Мориц, все заранее сочли ее виновной. Быть может, и меня ждет подобная несправедливость — если только мое имя когда-либо выйдет за стены тюрьмы.
Но кто замолвит снаружи за меня слово, кто вмешается в мое дело? В двадцатом и двадцать первом веке все обстояло бы совсем по-другому, по крайней мере в Америке, Японии или Западной Европе. Каменный занавес уже не отрежет тогда заточенных в тюрьму от внешнего, свободного мира. И среди заключенных я не числю должников — в будущем правительство достаточно образумится, чтобы не сажать людей в тюрьму из-за одних долгов.
Откуда взялись эти мелкие улучшения? (Конечно же, я подхожу к общим вопросам столь окольным путем, поскольку тема тюрьмы назойливо лезет мне в глаза. Но мне представляется, что окажись я с оторванной ногой на поле Ватерлоо, или в кресле зубного врача без благословенного вспомоществования анестезии (этакий опий будущего), или лицом к лицу с засильем работы, под гнетом которой медленно вырождается и умирает с голоду моя семья, мои заключения в конечном счете могли бы оказаться точно такими же.)
Между твоим веком, Мэри, и моим огромные массы людей во многом избавились от своей грубости. Сколь бы ни был прекрасен твой век, сколько бы великих умов его ни украшало — и сколь бы ни был уродлив мой, жестоки многие из его лидеров, я все же верю, что в этом отношении время, из которого явился я, предпочтительнее вашего. Людей научили больше обо всем заботиться. Необычайно возросла их сознательность.
Мы больше не сажаем под замок людей с умственными расстройствами, хотя это и практиковалось почти весь двадцатый век, не дозволяется и выставлять их на всеобщее посмешище. Хотя, по правде говоря, никто бы над ними и не смеялся. (Как я восхитился тобой, когда ты заявила лорду Байрону: «Даже дурак не переносит, когда его заставляют по-дурацки выглядеть!»)
Мы больше не повесим человека из-за того, что, доведенный до отчаяния невзгодами своей семьи, он украдет овцу или ломоть хлеба. На самом деле, мы уже не вешаем людей ни за что — и не прибегаем ни к каким другим видам смертной казни. Давным-давно перестали мы наслаждаться публичным зрелищем повешения. Не сажаем мы в тюрьму и детей.
Как и не дозволяем им становиться рабочими лошадками — для их отцов или кого бы то ни было. Детский труд был запрещен еще до того, как ваш век подошел к концу. Вместо этого все большее внимание уделялось образованию — в полном соответствии с медленно менявшимся общественным мнением на сей счет и в согласии с изречением, что политика — искусство возможного.
На самом деле, изменился весь пафос образования. Когда-то все образование — за вычетом, разве что, сыновей знати — было направлено на то, чтобы приучить человека к работе и, добавили бы циники, отучить его от жизни. Теперь, когда сложные машины способны сами по себе выполнять рутинную работу, образование в основном стремится снабдить юношей и девушек всем необходимым для жизни, чтобы они жили лучше, более творчески. Может, и поздновато, но это было реализовано.
Мы более не позволяем старикам подыхать с голоду, когда они перестают быть полезными для общества. Пенсии для престарелых были введены в начале двадцатого века. Гериатрия нынче непосредственно вмешивается в правительственные дела.
Мы более не позволяем слабым, глупым или неудачливым прозябать в канавах городских трущоб. На самом деле, трущобы в былом значении этого слова почти исчезли. Существует великое множество всевозможных благотворительных установлений — вы с Шелли пришли бы от них в изумление.
Если человек теряет работу, он получает пособие по безработице. Если заболевает — пособие по болезни. Имеется общественная служба здравоохранения, которая бесплатно заботится о всех больных.
И так далее, и тому подобное. Хотя население твоей родной Англии увеличилось к моему времени по сравнению с 1816 годом вшестеро, каждому гарантирован несравненно больший шанс провести свою жизнь без катастроф и потрясений, а если таковые все-таки приключатся, несравненно больший шанс на помощь, чтобы их преодолеть.
(Уж не расписываю ли я это словно некий рай, утопию, социалистическое государство, столь любезное сердцу Шелли или твоего отца? Ладно, тогда не забудь, что все это равенство достигнуто лишь в одной небольшой части земного шара и к тому же в основном за счет всех остальных; что неравенство, когда-то чисто внутреннее дело любого народа, нынче обрело столь глобальный межнациональный характер, что привело к чудовищно разрушительной войне между богатыми и бедными нациями; не забудь, что это неравенство питаемо все ожесточающимся расовым антагонизмом, каковой воспринимается просвещенными людьми моей эпохи как трагедия нашего времени.)
Чем же объясняется подобный социальный прогресс буквально во всех сферах человеческих отношений, достигнутый за промежуток между нашими эпохами? Ответ: ростом общественного сознания, захватившим практически все слои населения.
Что же поспособствовало этому росту?
Рефрен Франкенштейновой песенки — человеку на роду написано привести природу в порядок. Уверен, что, когда его последователи оказались активно вовлечены в этот процесс, они понаделали немало тягчайших, почти катастрофических ошибок. Недавно уже мое поколение вынуждено оказалось подвести счет причиненным этими ошибками потерям, позабыв при этом о полученной выгоде.
Ибо дары Франкенштейна включают не только материальные объекты вроде восхитившей тебя обивки автомобильных сидений — или самого автомобиля.
Включают они и все неосязаемые дары благосостояния, которые я уже перечислял — боюсь, ты сочтешь, что чересчур пространно. Одним из непосредственных результатов развития науки и техники стал рост производства плюс некоторые побочные выгоды — такие, как возникновение обезболивающих средств, приложение принципов бактериологии и иммунологии к гигиене, лучшее понимание самой сути здоровья или болезни, применение машин там, где раньше использовался детский или женский труд, удешевление бумаги, расцвет прессы, становящейся доступной массам, за которой следуют и другие средства массовой коммуникации, существенное улучшение условий дома, на работе, в городах — и так далее, и тому подобное, списку нет конца.