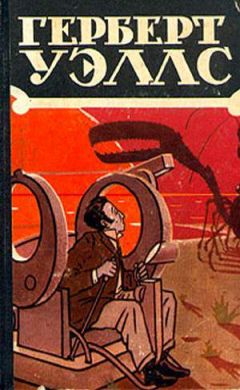Герберт Уэллс - В дни кометы
Я взял от нее поднос, чтобы положить конец этой паузе.
– Не трогай моего платья, мама, – сказал я резко, когда она протянула к нему руку. – Со щеткой я и сам управлюсь.
Она покорно направилась к двери, и тут я удивил ее словами:
– Ты очень добрая, мама, я знаю… Только пока, мама, милая, оставь меня. Оставь меня!
И она ушла от меня смиренно, как служанка. Бедное покорное сердце, измученное жизнью и мною!
В то утро мне казалось, что у меня никогда уже больше не будет таких приступов бешенства. Мною овладела печальная решимость. Моя цель казалась мне теперь непоколебимой, твердой, как скала, во мне не было уже ни любви, ни ненависти, ни страха, – была только острая жалость к матери из-за того, что должно случиться. Я медленно съел свой завтрак, раздумывая о том, как бы узнать, где находится Шэпхембери и как мне туда добраться. С деньгами было плохо – у меня не было и пяти шиллингов.
Я старательно оделся, выбрав наименее потертый из своих воротничков, и выбрился тщательнее обыкновенного; затем я отправился в публичную библиотеку посмотреть на карту.
Шэпхембери оказался на побережье в Эссексе, – это означало сложное и долгое путешествие из Клейтона. Я пошел на станцию и переписал расписание поездов. Носильщик, к которому я обратился с вопросом, и сам не знал ничего толком про Шэпхембери, но кассир помог мне, и мы вдвоем разыскали все, что мне требовалось узнать. Потом я снова очутился на усыпанной углем улице. Мне нужно было по меньшей мере два фунта.
Я опять пошел в читальню публичной библиотеки раздумывать над этой задачей в газетном зале.
И тут я заметил, что публика с непривычной жадностью набрасывается на утренние газеты: в атмосфере читальни было что-то необычное, гораздо больше народу и разговоров, чем всегда. На минуту я удивился, потом вспомнил: «Да ведь война с Германией!» Предполагали, что в Северном море происходит морское сражение. Ну и пусть себе. Я вновь вернулся к своим мыслям.
Парлод?
Пойти помириться с ним и попросить денег взаймы?
Я обдумал это со всех сторон. Потом стал думать о том, что можно продать или заложить, но это было не так-то легко. Мое зимнее пальто и новое-то не стоило фунта, часы же не могли принести больше нескольких шиллингов. И все же эти две вещи кое-что дадут. Мать, вероятно, копит деньги на квартирную плату, но об этом мне противно было и думать. Она усиленно их прятала и держала в спальне запертыми в старом ящичке из-под чая. Я знал почти наверное, что добровольно она не даст из них ни пенса, и хотя уверял себя, что в деле страсти и смерти ничто не имеет значения, все же я не мог отделаться от мучительных укоров совести, когда вспоминал о ящичке из-под чая.
Нет ли других путей? Быть может, испробовав все остальные возможности, я смогу просто выпросить у нее несколько недостающих шиллингов? «Те, другие, – думал я, на этот раз довольно хладнокровно, про обеспеченных, – вряд ли разыгрывали бы свои романы на деньги, занятые у ростовщика. Как бы то ни было, я должен найти выход».
Я чувствовал, что день проходит, но это меня не тревожило. «Тише едешь, дальше будешь», – говаривал Парлод, и я решил сначала обдумать все до последней мелочи, медленно и тщательно прицелиться и только потом уже действовать мгновенно, как пуля.
Идя домой обедать, я замедлил было шаг у ломбарда: не зайти ли сейчас же заложить часы, – но потом решил отнести их вместе с пальто.
Я ел, молча обдумывая свои планы.
После обеда – картофельная запеканка с капустой, чуть сдобренная свиным салом, – я надел пальто и вышел из дому, пока мать мыла посуду в судомойне.
В те времена судомойней в таких домах, как наш, называлось сырое, зловонное подвальное помещение позади кухни, тоже темной, но все-таки жилой. Наша судомойня была особенно грязна, потому что из нее был вход в угольный подвал – зияющую темную яму с хрустящими на кирпичном полу кусочками угля. Здесь была область «мойки» – грязное, противное занятие, следовавшее за каждой едой. Я до сих пор помню гнилую сырость этого места, запах вареной капусты, черные пятна сажи там, куда на минутку поставили сковородку или чайник, картофельную шелуху на решетке под сточной трубой и отвратительные лохмотья, называвшиеся «посудными тряпками». Алтарем этого храма была раковина – большой каменный чан для мытья посуды, отвратительный на ощупь, покрытый слоем жирной грязи; над ним находилась трубка с краном, устроенным таким образом, что холодная вода брызгала и окатывала каждого, кто его отвертывал. Этот кран снабжал нас водой. И в таком-то месте представьте себе маленькую старушку – мою мать, – неловкую и беспомощную, очень кроткую и самоотверженную, в грязном выцветшем платье, казавшемся теперь пыльно-серым, в изношенных грязных башмаках не по мерке, с руками, изуродованными черной работой, с непричесанными седыми волосами. Зимой ее руки потрескаются, и ее будет мучить кашель. И пока она моет там посуду, я ухожу продавать пальто и часы, чтобы покинуть ее.
Насчет заклада вещей у меня вдруг возникли непонятные колебания. Стесняясь закладывать в Клейтоне, где закладчик меня знал, я снес их в Суотингли на Лин-стрит, где купил свой револьвер. Тут мне пришло в голову, что не следует давать о себе столько улик одному и тому же человеку, и я унес вещи обратно в Клейтон. Не помню, сколько я получил за них, но денег не хватило на билет до Шэпхембери даже в один конец. Ничуть этим не обескураженный, я вернулся в публичную библиотеку посмотреть, нельзя ли где-нибудь сократить путь, пройдя миль десять – двенадцать пешком. Но башмаки мои были в самом печальном состоянии, вторая подошва тоже отпала, и мне пришлось примириться с мыслью, что такое путешествие пешком они не выдержат. Для обычной ходьбы они еще годились, но не для такой спешки. Я побывал у сапожника на Гэккер-стрит, но он не мог взяться за починку раньше чем через два дня.
Домой я вернулся без пяти три, решив, во всяком случае, ехать в Бирмингем с пятичасовым поездом, хотя и видел, что денег не хватит. Я бы охотно продал какую-нибудь книгу или еще что-нибудь, но не мог найти ничего ценного. Серебро матери – две десертных ложки и солонка – уже несколько недель лежали в закладе, попав туда в июне, в день взноса трехмесячной квартирной платы. Но я не терял надежды что-нибудь придумать.
Поднимаясь на крыльцо, я заметил, что мистер Геббитас выглянул из-за бледно-красных гардин с какой-то тревожной решимостью в глазах и тотчас же скрылся, а когда я проходил по коридору, он внезапно открыл свою дверь и перехватил меня.
Представьте себе мрачного неотесанного парня, в дешевом костюме того времени, настолько изношенном, что он весь лоснился, в выцветшем красном галстуке и с обтрепанными манжетами. Моя левая рука все время была в кармане, видимо, не желая расстаться с чем-то, что она там сжимала. Мистер Геббитас был ниже меня ростом, и каждый с первого взгляда отмечал в нем что-то острое, птичье. Мне кажется, он хотел бы походить на птицу, и была в нем какая-то птичья прелесть, но у него не было ни капли резвости и жизнерадостности, которая есть у птицы. Притом у птицы никогда не бывает одышки и она не стоит, разинув рот. Мистер Геббитас был одет в сутану – обычное платье священников того времени, кажущееся теперь самым странным из всех тогдашних костюмов, причем оно было из самой дешевой черной материи, плохо скроено и плохо сидело на нем, выставляя напоказ круглое брюшко и короткие ноги. Белый галстук под круглым воротничком, над которым возвышалось наивное лицо и большие очки, был измят, в желтых зубах он держал короткую трубку. Хотя ему было не больше тридцати трех – тридцати четырех лет, кожа у него была вялая, а рыжеватые волосы начали уже редеть на макушке.