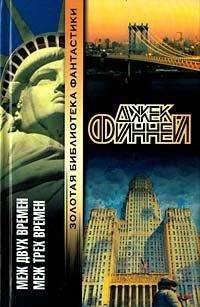Джек Лондон - Звездный скиталец
Внезапный трепет пробежал по обозу. Отец поднял голову. И моя голова поднялась. Даже наши кони подняли свои усталые головы, с хрипом втянули в себя воздух и пошли бойчее. Лошади передних всадников также ускорили шаг. Что до стада волов, смахивавших на вороньи пугала, то они пустились вскачь. Это было уморительное зрелище. Бедные твари были так неуклюжи в своем бессильном проворстве! Это были скачущие скелеты, облаченные в шелудивую кожу — но они обогнали мальчишек, своих пастухов. Впрочем, ненадолго. Волы опять пошли шагом; быстрым, шатающимся, болезненным шагом: их уже не манили сухие пучки травы.
— В чем дело? — спросила мать из повозки.
— Вода! — ответил отец. — Должно быть, Нефи.
— Слава богу! Может быть, нам продадут и еды, — произнесла мать.
И наши огромные повозки, в облаке кроваво-красной пыли, со скрежетом, скрипом, треском и грохотом вкатились в Нефи. Поселок составляла дюжина разбросанных лачуг. Местность была такой же, как и та, по которой мы ехали. Не видно было деревьев — один голый песок и местами кусты. Но зато виднелись возделанные поля, а кое-где и заборы. И была вода! По руслу не бежали ручьи. Но русло реки было влажно, и местами в нем застоялись лужи, в которые вошли разнузданные верховые кони и волы, погрузив свои морды до самых глаз. Тут же росла небольшая ива.
— Должно быть, это мельница Билля Блэка, о которой нам рассказывали,
— промолвил отец, указав на какое-то здание матери, нетерпеливо выглядывавшей из-за его плеча.
К нашей повозке подъехал старик в замшевой рубашке, с длинными, косматыми, выцветшими от солнца волосами и заговорил с отцом. Был подан сигнал, и передние повозки обоза начали разворачиваться кругом. Местность благоприятствовала этому маневру; благодаря продолжительной практике он был выполнен гладко, так что когда наконец сорок повозок остановились. они образовали круг. Множество женщин с усталыми и запыленными лицами, как у моей матери, выползли из повозок. Высыпала и целая орда ребят. Тут было по меньшей мере пятьдесят детей, и мне казалось, что я всех их давно знаю. Женщин было не менее двух десятков; они тотчас же занялись приготовлением ужина.
Пока одни рубили вместо хвороста сухую полынь, а мы, дети, тащили ее к кострам, где она разгоралась, другие снимали ярмо с волов и пускали животных к воде. Затем мужчины стали передвигать повозки; дышло каждой повозки пришлось внутри круга, и каждая повозка спереди и сзади находилась в тесном соприкосновении с соседней. Большие тормоза были крепко замкнуты; мало того, колеса всех повозок соединили цепями. Для нас, детей, это было не ново. Это был бивуак в чужом краю. Одна повозка была оставлена вне круга, образовав ворота в этот «корраль» — загородку. Мы знали, что попозже, но раньше, чем в лагере улягутся спать, животных загонят внутрь и повозка, служащая воротами, будет привязана цепями, как и другие. В ожидании этого животные паслись на скудной траве под надзором мужчин и мальчиков.
Пока разбивали лагерь, мой отец с несколькими другими мужчинами, включая и старика с длинными выцветшими космами, пешком пошел по направлению к мельнице. Я помню, все мы — мужчины, женщины и дети — наблюдали их уход; казалось, что они пошли по чрезвычайно важному делу.
В их отсутствие несколько мужчин, незнакомых нам жителей пустынной Нефи, подошли к нашему лагерю. Они были белые, как и мы, но с жесткими, угрюмыми и мрачными лицами: казалось, они были озлоблены на всю нашу компанию. В воздухе пахло бедой, и то, что говорили пришедшие, не могло не возмутить наших мужчин. Но женщины успели предупредить всех мужчин и подростков, что ссор никоим образом не должно быть.
Один из незнакомцев приблизился к нашему костру, где моя мать стряпала. Я только что подошел с полной охапкой полыни и остановился послушать и поглядеть на непрошеного гостя, которого я ненавидел, ибо в самом воздухе носилась ненависть, ибо я знал, что в нашем лагере все, как один, ненавидят этих чужестранцев, белокожих, как и мы, по милости которых мы вынуждены были разбить наш лагерь как крепость.
У незнакомца, подошедшего к нашему костру, были голубые глаза, жесткие, холодные и пронзительные; волосы — песчаного цвета. Лицо было обрито до подбородка, а вокруг подбородка, прикрывая щеки до самых ушей, росла песочная бахромка седоватых бакенбардов. Мать не поздоровалась с ним, и он не кланялся. Он просто стоял и молча глядел на нее некоторое время. Потом крякнул и с издевкой промолвил:
— Готов побиться об заклад, что тебе хотелось бы быть сейчас дома, в Миссури.
Я видел, что мать прикусила себе губы, сдерживаясь, и не сразу ответила:
— Мы из Арканзаса.
— Я думаю, у вас имеются основательные причины скрывать, откуда вы едете, — продолжал он. — Вы прогнали избранный народ божий из Миссури.
Мать ничего не ответила.
— …А теперь, — продолжал он, помолчав, — вы пришли сюда хныкать и выпрашивать хлеб у людей, которых вы преследовали…
Мгновенно, несмотря на всю свою молодость, я ощутил в себе гнев, древний, багровый гнев, всегда необузданный и неукротимый.
— Ты лжешь! — запищал я. — Мы не миссурийцы. Мы не хнычем! И мы не попрошайничаем! У нас есть чем заплатить!
— Замолчи, Джесс! — крикнула мать, закрывая мне рот рукой. И она обратилась к незнакомцу: — Уходи и оставь мальчика в покое.
— Я угощу тебя свинцом, проклятый мормон! — всхлипнув, крикнул я, прежде чем мать успела остановить меня, и обогнул костер, уклоняясь от ее подзатыльника.
Что касается незнакомца, то моя выходка не произвела на него ни малейшего впечатления. Я ожидал самой жестокой кары от страшного незнакомца и опасливо следил за ним, пока он смотрел на меня с невозмутимой серьезностью.
Наконец он заговорил, — заговорил торжественно, важно покачивая головой, словно произносил приговор.
— Яблочко от яблони недалеко падает, — вымолвил он. — Молодое поколение так же нечестиво, как и старое. Весь род неисправим и проклят. Никого не спасешь — ни молодого, ни старого. Нет им искупления. Даже кровь Христа не может стереть их неправду.
— Проклятый мормон! Проклятый мормон! Проклятый мормон!
Я проклинал его, танцуя вокруг костра и спасаясь от материнской руки, пока он не ушел.
Когда вернулись отец и сопровождавшие его мужчины, работы в лагере прекратились, ибо все с тревогой столпились вокруг него.
— Не хотят продавать? — спрашивали женские голоса.
Отец покачал головой.
Тут заговорил синеглазый, со светлыми бакенбардами тридцатилетний гигант, быстро протиснувшийся в середину толпы.
— Говорят, у них муки и провизии на три года, — начал он. — Раньше они всегда продавали переселенцам, а теперь не хотят. И мы ведь с ними не ссорились; они в ссоре с правительством, а вымещают на нас. Это нечестно, капитан! Нечестно, говорю я. У нас женщины и дети, до Калифорнии несколько месяцев пути, зима на носу, а перед нами пустыня!