Тимур Литовченко - До комунизма оставалось лет пятнадцать-двадцать
Это же так просто! И именно об этом говорил Сонин дедушка: “Желаю вам оставить здесь свои свечки и поскорее уйти”. В самом деле, очень все просто.
Но Юра тут же испугался. Обладатели белой одежды устремлялись во второй, более высокий мир. Значит... Соня тоже готова уйти туда?! А как же он!!!
— Соня, а как же... как же... — юноша не мог произнести ни одного местоимения: ни “я”, ни “ты”, ни “мы”, — лишь открывал и закрывал рот, как рыба, да бессмысленно хлопал глазами.
— Ради тебя я пропустила один Духов день. Потерплю.
Тут все пришедшие засуетились, зашикали и начали пододвигаться поближе к свисающему с потолка наросту. “Несут, несут”, — слышалось отовсюду. А сверху мягкими невидимыми волнами накатывался траурный марш, приближался, лился вдоль аллеи точно некая материальная субстанция.
Юра и Соня стояли в толпе плечом к плечу. Никто здесь не распоряжался, не командовал другими, но каждый молча занимал то место, какое должен был занять согласуясь с внутренним чувством.
Высокий старик, совершенно седой, в странной серебристой одежде стоял возле самого сталактита. Позади него полумесяцем расположились белые личности, из которых юноша наглядно знал лишь Старого Сему и Катерину, незадолго перед тем беседовавшую с Мишей. Еще дальше расположились обыкновенные (среди которых находился и Юра), а позади всех — опять же белые. Света здесь было столько, что никто почти не принес неугасимых свечей. Однако старик в серебристом зачем-то держал на ладони маленькую свечку, правда, незажженную (хотя совершенно непонятно было, зачем ему какой бы то ни было источник света).
Пока все ждали начала похорон, Юра напряженно обдумывал слова девушки: долго ли она будет ждать, не бросит ли его, когда ей все же надоест ожидание и так далее, — как вдруг поймал себя на том, что в последнее время размышляет слишком много, просто необычайно много, что на него совершенно не похоже.
Нет, не только все его здешние знакомые изменились — он сам также изменился! В этом все дело. Только что посетившее его озарение насчет дальнейшего пути отнюдь не случайно. Судьба до срока безжалостно вырвала его из жизни и бросила в черноту; он отбыл здесь свою ссылку и созрел, как дозревает в темном месте зеленый помидор.
И наконец понял главное:
Хочется ему не в блистающий мир, а назад, на землю!
Это было ясно не только в Духов день — еще во время первой встречи с Мишей среди развалин корпуса психиатрической больницы, когда Юра в бессильной ярости взбирался на наклонно стоящую балку и отчаянно прыгал вверх. Но тогда он был именно бессильным. А чтобы уйти наверх, надо набраться сил, созреть, стать сильным.
Чтобы уйти — надо уйти.
Юноша счастливо улыбнулся и подумал, что сегодняшний день — день открытия простых и даже тривиальных истин. Ничего никому он не станет говорить. Просто уйдет. Уйдет, и все. Если все хотят в блистающий мир, если пугают его какими-то там страшными последствиями необдуманного шага, пусть трусят и катятся в свой свет. А он все обдумал и все давно для себя решил.
Он возвращается.
Хватит бояться! Достаточно подлостей делает человек из страха. Вон бабушку Маню они отпустили одну по-собачьи сдохнуть в одиночестве. А ведь это подло! Никто их и не искал из-за отца, все это надуманные мамины страхи. Юра и прежде ощущал неясную вину перед бабушкой, только не осознавал ее до конца. Так вот, значит, что было в корне вины: ощущение собственной подлости! И неизвестно еще, извиняет ли его юный возраст...
Нет, нельзя больше трусить! Довольно.
И сразу на душе стало легче. Теперь Юра знал, что скажет Доводову. он с каким-то новым, совершенно незнакомым чувством смотрел на черный нарост ямы.
А наверху давно уже смолк похоронный оркестр, и через неравные промежутки времени оттуда доносились приглушенные землей голоса: официальные лица бубнили заготовленные заранее траурные речи. Но вот в черном наросте раздалось наконец шуршание, что-то тяжелое опустилось на дно. Тогда сверху послышались рыдания, выворачивающее наизнанку душу гудение труб и уханье барабана. Схваченные легкими осенними заморозками комья земли гулко забарабанили по дереву; нарост начал уменьшаться подобно надсеченному фурункулу, из которого вытекает гной, и все увидели на земляном полу роскошный гроб, из-под крышки которого торчали придавленные живые цветы.
Траурный марш безумствовал, метался и бился под ровным теперь сводом, точно будил лежащего в гробу. Стоявшие полумесяцем белые вытянули руки вперед, крышка задрожала, сделалась прозрачной, и все увидели под ней пожилого мужчину в дорогом костюме, солидного и благообразного, с залысинами на высоком лбу.
В воздетой к потолку руке серебристого старца вспыхнул неугасимый отныне огонек. Он распространял вокруг ровный мертвенный свет, и под его влиянием крышка гроба помутнела и обрела прежний вид, однако покойник остался сверху. Белые опустили руки, оркестр умолк, звуки музыки словно ножом срезало. В наступившей тишине прозвучал раскатистый бас серебристого старца:
— Вставайте, Осип Алексеевич Доводов!
Тогда глаза мертвеца раскрылись, он чрезвычайно медленно сел (казалось даже, не сел, а перетек в сидячее положение). Юра на несколько секунд зажмурился, потому что вспомнил свои первые мгновения во тьме, и ему стало не по себе, и еще стало очень жаль похороненного. Когда же он вновь отважился взглянуть на гроб, сидящий человек затравленно озирался кругом, как бы ища спасения. В глазах его читались смятение и ужас. Серебристый старик сунул ему в руки свечку и немного смущенно пробасил:
— Такие вот дела, Осип Алексеевич! Могилу мою раскопали, косточки на свалку отправили, и теперь на моем месте лежать будете вы. Но я не в претензии, поверьте. Наши тела хоронят живые, им же и распоряжаться прахом. А душу мы принимаем к себе. Вот, собственно, и все. А засим добро пожаловать, товарищ Доводов!
С этими словами серебристый старец отступил — и исчез. Похороненный моментально взвился на ноги, однако из мрака перед его лицом выдвинулась серебряная рука и так хлопнула Доводова по плечу, что он тут же очутился на прежнем месте.
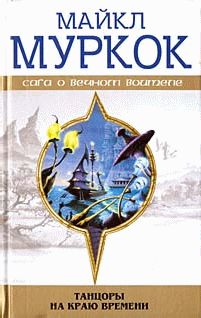

![Майкл Муркок - Танцоры на Краю Времени: Хроники Карнелиана [ Чуждое тепло. Пустые земли. Конец всех времен]](/uploads/posts/books/75413/75413.jpg)