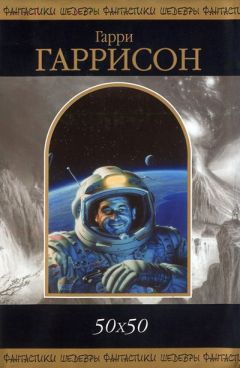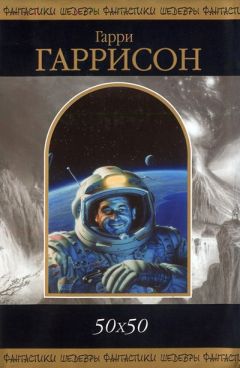Гарри Гаррисон - Г. Гаррисон, Р. Шекли: Сборник научно–фантастических произведений
Передо мной стояла девушка — высокая, худенькая девушка с огромными, словно блюдца, глазищами. Она озиралась по сторонам как лунатик и бормотала:
— Марс! Госпо–ди–и!
Потом заметила меня и вспыхнула.
— Простите меня, сэр, — сказала она. — Я… я подслушивала.
ЧЕЛОВЕКОМИНИМУМ[61]
У каждого своя песня, думал Антон Настойч. Хорошенькая девушка подобна мелодии, а бравый космонавт — грохоту труб. Мудрые старцы в Межпланетном бюро напоминают разноголосые деревянные духовые инструменты. Есть на свете гении, чья жизнь — сложный, богато инструментованный контрапункт, а есть отбросы общества, и их существование всего лишь вопль гобоя, заглушённый неутомимой дробью басового барабана.
Размышляя обо всем этом, Настойч сжимал в руке лезвие бритвы и рассматривал синие прожилки вен у себя на запястье.
Ибо если у каждого своя песня, то песню Настойча можно уподобить плохо задуманной и бездарно исполненной симфонии ошибок.
При его рождении чуть слышно зазвенели было колокольчики радости. Под приглушенный барабанный бой юный Настойч отважился пойти в школу. Он кончил с отличием и поступил в колледж, в привилегированную группу из пятисот учащихся, где в какой–то степени можно было рассчитывать на индивидуальный подход.
Однако Настойчу не везло от рождения. За ним тянулась непрерывная цепь мелких неприятностей — опрокинутые чернильницы, утерянные книги и перепутанные бумаги. Вещам была свойственна отвратительная привычка ломаться у него в руках, если не считать случаев, когда вещи ломали ему руки. Добавьте к этому, что он переболел всеми детскими болезнями, в том числе скарлатиной, алжирской свинкой, фурункулезом, лисянкой, зеленой и оранжевой лихорадкой.
Все эти неприятности ни в коей мере не умаляли врожденных способностей Настойча, но в перенаселенном мире конкуренции на одних способностях далеко не уедешь. Нужно еще изрядное везение, а у Настойча его вовсе не было. Нашего героя перевели в обычную группу на десять тысяч студентов, где все проблемы усложнились, а шансы подхватить инфекцию повысились.
То был высокий, худой, мягкосердечный, трудолюбивый молодой человек в очках, которому (по причинам, не поддающимся анализу) врачи давно поставили диагноз «подвержен несчастным случаям». Какие бы там ни были причины, факт оставался фактом. Настойч относился к числу тех бедняг, для которых жизнь трудна до невозможности.
Большинство людей скользит по жизненным джунглям с легкостью крадущейся пантеры. Но для Настойча эти джунгли на каждом шагу кишели капканами, западнями и ловушками, ядовитыми грибами и жестокими хищниками, разверзались внезапными пропастями и разливались непреодолимыми реками. Безопасного пути нет. Все дороги ведут к беде.
Годы учения в колледже юный Настойч кое–как преодолел, невзирая на замечательный талант ломать ноги на винтовых лестницах растягивать сухожилия, спотыкаясь о тумбы, ушибать локти в турникетах, разбивать очки о зеркальные стекла окон и вообще проделывать все прочие грустные, нелепые и тягостные трюки, которые выпадают на долю людей, подверженных несчастным случаям. Он мужественно устоял перед соблазном впасть в ипохондрию и силился бороться с неудачами.
Окончив колледж, Настойч взял себя в руки и попытался вновь утвердить светлую тему надежды, некогда намеченную его дюжим отцом и нежной матерью. Под барабанную дробь и переливы струн ступил Настойч на остров Манхэттен, чтобы стать кузнецом собственного счастья. Он упорно трудился, стремясь побороть свою злую судьбу, склонность к несчастьям и, несмотря ни на что, хотел остаться оптимистом.
Однако злая судьба брала свое. Благородные аккорды выливались в невнятное бормотание, и симфония жизни Настойча докатилась до уровня комической оперы. Работу за работой терял он в потоке испорченных диктофонов и залитых чернилами договоров, забытых карточек и перепутанных таблиц; в мощном крещендо ребер, сломанных в толкотне подземки, ступней, вывихнутых в решетках тротуаров, очков, разбитых о незамеченные углы, в череде болезней (в том числе — гепатита Д, марсианского гриппа, венерианского гриппа, синдрома пробуждения и смешливой лихорадки).
Настойч по–прежнему противился искушению стать ипохондриком. Во сне он видел космос и смельчаков с квадратными подбородками, завоевывающих новые земли, видел поселения на дальних планетах и бескрайние просторы свободных земель, где вдали от чахлых игрушечных джунглей Земли человеку воистину дано познать самого себя. Он подал заявление в Бюро межпланетных путешествий и поселений и получил отказ. Нехотя отмахнулся он от мечты и снова попытал свои силы в разных областях. Одновременно он прибегал и к психоанализу, и к гипнотическому внушению, и к гипнотическому гипервнушению, и к снятию противовнушения, но все понапрасну.
У каждой симфонии есть свой финал, а у каждого человека — свой предел. Тридцати четырех лет от роду, в три дня вылетев с работы, которую искал два месяца, Настойч распрощался с надеждами. Эту неудачу он считал заключительным, комическим, диссонирующим ударом медных тарелок — последней почестью тому, кому лучше было и не появляться на свет.
Получив с мрачным видом свои жалкие гроши, Настойч обменялся последним робким рукопожатием с бывшим начальником и стал спускаться на лифте в вестибюль. В его мозгу уже мелькали мысли о самоубийстве: ему чудились колеса грузовика, газовые краны, многоэтажные здания и быстроходные реки.
Лифт доставил его в необозримый мраморный вестибюль, где дежурили полисмены в форме и где целые толпы дожидались очереди на выход в город. Настойч пристроился в хвост и, пока не подошла его очередь, бездумно следил за измерителем плотности населения, стрелка которого подрагивала почти у самой отметки паники. На улице наш герой влился в могучий поток, текущий на запад, к жилому массиву, где обитал и он.
В его мозгу все еще копошились мысли о самоубийстве, уже не такие лихорадочные, но облеченные в более конкретную форму. Настойч перебирал в уме различные способы и средства, пока не поравнялся со своим домом; тогда он отделился от толпы и скользнул в подъезд.
Настойч пробрался сквозь несметные полчища детишек, наводнявших коридоры, и попал в клетушку, выданную ему городскими властями. Он вошел, закрыл дверь, запер ее на ключ и вынул из бритвенного прибора лезвие. Улегшись на кровать и упершись ногами в противоположную стену, он стал рассматривать синие прожилки вен у себя на запястье.