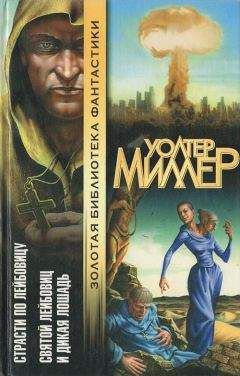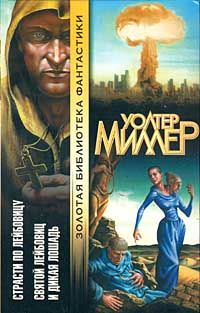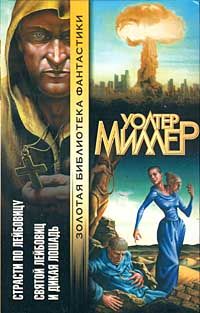Уолтер Миллер - Страсти по Лейбовицу. Святой Лейбовиц и Дикая Лошадь
Сообщенные выше минимальные биографические сведения, надеюсь, все-таки помогут читателю лучше понять пафос главного произведения Уолтера Миллера. Особенно это касается авиарейда на Монте-Кассино, оставившего в душе писателя незажившую психологическую рану. Наверное, так же нелишне перед чтением воннегутовской «Бойни № 5» взять на заметку, что автор воевал в Европе, был пленен и чудом уцелел во время не менее варварской бомбардировки — своими же — Дрездена…
Вот и под занавес романа Миллера бомбы начнут падать на монастырь ордена святого Лейбовица. А в самом финале лелеемое братством на протяжении веков хранилище знания и культуры — их монастырь — обрушится, как гнев божий, на последнего настоятеля и убьет его.
Но перед этим падающий свет с небес, Люциферов огонь (ибо имя Люцифер означает не только падшего ангела, ставшего врагом рода человеческого, но, в переводе с греческого, — просто Светоносец!), еще даст, по прихотливой фантазии романиста, рождение новой непорочной деве, внезапно прозревшей от слепящего атомного пламени. Ее взор впервые откроется миру — невинный и любопытный взор ребенка. (Я пишу «она», «ее», хотя речь идет о внезапно проснувшейся, ожившей… второй голове женщины-мутанта!) Цивилизация на Земле рухнет в очередной раз, вероятно, окончательно и бесповоротно, а последний звездолет с монахами ордена отправится в далекую звездную колонию — чтобы попытаться еще раз…
Даже этой микроаннотации достаточно, чтобы составить представление о серьезности замысла автора. Вот уж не звездные войны — так не звездные. Наши, земные. И если отбросить атомный антураж — прожитые, знакомые.
На одном важном моменте я бы хотел остановиться, предваряя ваше чтение. Мысли, разумеется, субъективные, но это одна из привилегий автора вступительной статьи — высказать их.
Это, безусловно, произведение религиозное (после знакомства с ним вопрос о конфессии отпадает сам собой: кажется, во время оно Святой Престол благодарно приобщал к лику святых и за меньшее!). Говоря так, я вовсе не имею в виду монастырь как основное место действия и не образы героев-монахов — но скорее внутреннее чувство, настроение и неистребимую веру автора в некие высшие ценности. Вера эта слепа и инстинктивна — несмотря ни на что, вопреки всему, что подсказывает разум и здравый смысл. Вопреки даже ужасной, обескураживающей правде о том, как человечество на деле следует этим проповедуемым ценностям.
Верующий человек Миллер не желает видеть эту правду. Однако художник Миллер не может просто отбросить ее, как дьявольское наваждение. И это столкновение, конфликт религиозной веры и объективного знания (а научная фантастика, по крайней мере в лучших своих образцах, по-прежнему остается для автора этих строк литературой беспощадно трезвой и, по сути, иконоборческой), — на мой взгляд, как раз самое интересное в этом романе.
Почему автор столь болезненно привязан к человеку, сострадает ему, порой ненавидя — за упрямство, эгоизм, монотонное циклическое повторение одних и тех же ошибок, сциентистскую гордыню? Откуда в писателе эта гипертрофированная человечность?
Для читателя-верующего все ясно без лишних слов: в основе всего — глубокая и искренняя вера писателя. И при желании его роман действительно без особого труда читается как Gloria — «Славься!» христианской вере и ее неусыпным старателям на Земле.
Но откуда же тогда эта ирония, которую не уловят лишь самые «упертые» и культурно обделенные? Ведь неусыпное служение малограмотных монахов делу сохранения культуры прошлого — как они ее понимают — неоднократно вызывает ухмылку и даже раздражение у всякого думающего читателя, не важно — верующего или агностика. По крайней мере в сознании автора этих строк грустный сарказм и беспощадная трезвость менее всего уживаются с образом религиозной проповеди, пафосной и благоговейной.
Думаю, все дело в том симбиозе, о котором упоминалось выше. Это и религиозная проповедь, и научная фантастика — а вовсе не религиозная «проповедь вместо фантастики», примеров чего мы в последнее время тоже начитались изрядно. Автора «подводит» все та же предельная искренность — фирменная метка Миллера-писателя. Он просто исключает для себя вариант игры с читателем, абсолютно не приемлет лукавство и мистификацию. Не стоит забывать и о том, что особое таинство под названием «литература» порой выкидывает такие фортели с пишущими, что не они оказываются ведущими, а их герои, образы, характеры.
В данном случае мы имеем дело с несомненной литературой — ведь, кроме иронии, «Страсти по Лейбовицу» наполняют юмор, пафос, трагедия, мифология, размышления о смысле жизни — и, главное, надежда. И уж так пожелала госпожа-литература, чтобы автор-слуга, хотел он того или нет, органически перевел свою торжественную мессу, свою Gloria, — в не менее величавый, пронзительно-трагический Requiem.
Другое дело, что самому Уолтеру Миллеру от этого легче, кажется, не стало.
Повторяю, при желании можно прочитать его роман как апологию религии — единственного оплота знания и культуры в темное, смутное время «после Бомбы». Но почему же тогда, несмотря на все тщание и бескорыстное служение Знанию, дело монахов ордена святого Лейбовица с самого начала безнадежно проиграно? Почему у Святого Престола не вышло и на этот раз? Как, в сущности, не выходило никогда, несмотря на все вековые претензии служить единственным светочем знания и культуры.
Может быть, все дело в том, что знание и культуру не спасешь конкретными предписаниями, содержащимися в инструкциях, написанных людьми, — будь то папские буллы или даже первокниги ведущих мировых религий, признанные верующими священными?
А что же тогда спасет? Ясно, что не одно какое-нибудь чудо-лекарство, не панацея. Прочитав роман, написанный глубоко религиозным человеком, с особой остротой ощущаешь, что, увы, и не религия.
Во всяком случае, каков бы ни был ответ (а если бы те, кто не признает упомянутые первокниги священными, знали его, то этим людям оставалось бы, вероятно, умереть от счастья!), роман Уолтера Миллера заставит задуматься над всеми этими проклятыми вопросами. Или как минимум отрешиться еще от одной иллюзии, химеры, столь модной в наши «неолуддитские» времена.
Классический музыкальный реквием — католическая заупокойная месса — обязательно состоит из нескольких функциональных частей. Это своего рода канон, хотя и допускающий некоторую свободу перестановок. По традиции где-то в середине мессы композитор помещает самую пронзительную и щемящую часть — Lacrimosa («Слезную»). «Слезная» обычно следует после отзвучавшего мощного Dies Irae («Судного дня») и предваряет финальный Lux Eterna («Вечный Свет»).