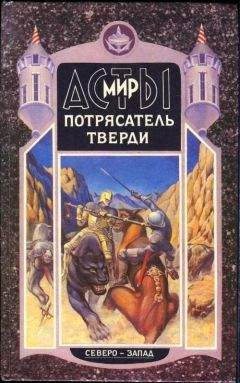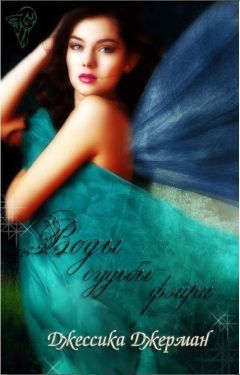Стефан Гайм - Агасфер
"Он врет!"
Эйцен испуганно вздрогнул. Это он сам кричал и тем не менее испуганно вздрогнул, тут же обернулся по сторонам, не замахнулся ли кто, чтобы ударить его по лицу или по затылку, что может причинить здоровью серьезный ущерб. Но народ, похоже, и сам испугался не меньше, а пуще других - еврей на помосте, у которого слова застряли в глотке и в пот его бросило. Тут Эйцен увидел, что никто не собирается с ним спорить, тем более поднимать на него руку; наоборот, все смотрят на него, будто уже не жид тут главный, а он, и тогда Эйцен, расхрабрившись и опять чувствуя себя борцом за веру, сказал себе, что сейчас задаст жару этому жиду, после чего набрал полную грудь воздуха и крикнул изо всей мочи: "Все это ложь и обман. Эдак вот морочат глупых крестьян, выманивая у них денежки. Но ни студиозуса, ни ученого мужа, ни достопочтенного горожанина, жителя Гельмштедта, так не проведешь! Да и не Агасфер это вовсе, и Иисуса Христа он видом не видывал. Это же еврей Ахав, я встречал его в Виттенберге, знаю, как он там принцессу охмурял, а теперь вот думает, что может всех честных христиан надуть".
Послышался сердитый ропот, и Эйцен сразу догадался, кем люди недовольны - не им, а евреем; ропот тем временем все усиливался, становился грознее, Эйцен ждал, чем ему ответит еврей, если, конечно, у него язык не отнялся. Он уже хотел было подать знак прекрасной Елене, чтобы она спускалась с подмостков под его защиту, только не мог придумать, как это сделать. Вдруг он заметил рядом с собою Лейхтентрагера, который как-то странно взглянул на приятеля и, криво усмехнувшись, сказал: "Молодец, Пауль, так и продолжай. Сейчас народ кинется наверх и убьет жида вместе с принцессой Трапезундской, а уж Бог тебя за это вознаградит".
Тем временем небо неожиданно быстро затянулось черными тучами, которые надвинулись справа и слева, оставив узкий просвет лишь посредине, прямо над жидом, за которым висела картина с изображением рыжеволосого Христа, распятого между двумя разбойниками; позади распятых возвышалась церковь с островерхой крышей и золотым петушком-флюгером на башне. Тут многие, должно быть, содрогнулись и подумали, что Бог вот-вот рассудит, кто прав, а кто виноват: еврей ли со своей принцессой или же молодой человек в магистерской шляпе, протиснувшийся в самый первый ряд.
Жид воздел руки, подобно пророку. Ропот сразу же приумолк. Глаза жида сделались жесткими и блестящими, как серая галька, он сказал: "Не впервые отвержен тот, кто не должен быть отвергнут, и отвержен тем, кто не должен отвергать. Это говорю вам я, Агасфер, по прозвищу Вечный жид, которого проклял Равви за то, что я прогнал его от дверей моих, когда он, изнемогая под тяжестью креста, хотел отдохнуть у меня, и если я говорю правду, то пусть трижды закричит тот золотой петушок на башне прежде, чем Господь ударит молнией".
Эйцен знал, что теперь надо громко расхохотаться, чтобы все услышали его смех и наваждение исчезло: ведь петушок на башне может разве что указывать направление ветра, но уж никак не кукарекать. Он обернулся к своему другу Лейхтентрагеру, пытаясь прочесть в его глазах поддержку - мол, петух, он и есть петух, медяшка, она и есть медяшка; однако Лейхтентрагер лишь поднял палец к уху и сказал: "Слушай!"
И впрямь, поначалу тихонько, неуверенно, будто молодой петушок робко пробует голос, потом смелее и звонче и, наконец, в третий раз оглушительно громко, на всю округу раздается петушиный крик, который изгоняет духов ночи и всяческое мракобесие.
Все будто окаменели. Лишь распятый Христос вроде бы шевельнулся, но нет, это предгрозовой порыв ветра тронул полотно, на котором изображено распятие. Затем ослепительная молния с каким-то шипением взорвала всеобщее оцепенение, она ударила в деревянные подмостки, те мгновенно занялись огнем, вспыхнуло пламя и сожгло картину с распятием, шест, и все это под испуганные вопли людей, метнувшихся в разные стороны, да так, что полы сюртуков и подолы юбок затрещали от встречного ветра.
Кто-то схватил Эйцена за руку, потащил прочь. "Давай-ка убираться подобру-поздорову, - услышал он голос Лейхтентрагера, - бежим отсюда, пока народ не опомнился и не надумал тебя прибить".
Глава двенадцатая
в которой разрывается надвое большой храмовый занавес, а Агасфер
объясняет Иуде Искариоту, что, хотя судьба человека предопределена, тем не
менее, он сам выбирает ее.
Никто не знает всей правды, кроме меня и Равви, но он давно мертв, а мертвые молчат.
Тот день выдался на редкость погожим; земля была еще влажной от зимних дождей, в воздухе стоял запах сырой пахоты, пышно цвели лилии, небо еще не поблекло от палящего солнца и изгибалось высоким синим куполом над городом и храмом. В такой день надо жить, а не умирать; но был канун субботы, поэтому все дела надлежало завершить сегодня, ибо Господь на седьмой день отдыхал, и никто в Израиле не смел в этот день работать.
Отсюда и спешка. Отсюда беготня между домом Каиафы, домом Ирода и домом Пилата, отсюда же неожиданный опрос среди народа, кого казнить и кого помиловать, бунтовщика ли Варраву или этого сумасшедшего - Царя Иудейского, отсюда же срочное совещание ученых мужей, чтобы разобраться, кто должен выносить приговор и кто приводить его в исполнение, чтобы учесть национальные, религиозные и прочие интересы священников, тетрарха и оккупационных властей, а тут еще упрямство реббе Йошуа, его полное нежелание считаться с мирскими делами, он уже видел себя призванным восседать одесную Бога, но в то же время сердце его полнилось самыми дурными предчувствиями и страхом. Отсюда же поспешный увод осужденного, не давший народу как следует насладиться зрелищем. А ведь чудак, который назвался царем и должен тащить на Голгофу собственный крест, - это ли не богатая пища для насмешек, это ли не возможность для народа безнаказанно отвести душу, поразвлечься, запомнить подробности, чтобы весело посудачить иногда вечерком, так нет же: едва этот бедняга, задыхающийся, исходящий кровавым потом, подгоняемый ударами, появлялся перед людьми, как его торопили идти дальше, и лишь там, где он рухнул на колени, словно мул под слишком тяжелой поклажей, кое-кто успел прокричать ему с издевкой "Осанна!", или "Да здравствует Царь Иудейский!", или "Как же ты собирался нас спасти, Сын Божий, если ты себе помочь не можешь?"
И мне стало жаль тебя, реббе Йошуа, несмотря на все твое безрассудство; сердце сжалось у меня в груди, когда я, стоя перед своим домом, увидел тебя с крестом на плечах. Я увидел твои глаза, ты тоже узнал меня, твои потрескавшиеся губы дрогнули, ты пытался что-то сказать, но послышался лишь хрип. Тогда я подошел к тебе и сказал: Видишь, я оказался рядом в твой самый трудный час.