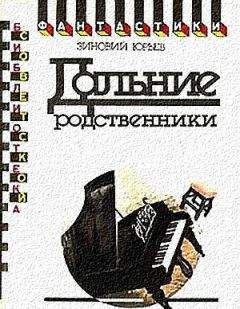Зиновий Юрьев - Бета Семь при ближайшем рассмотрении
Робот сделал знак рукой, но Густов лишь покачал головой. У него просто не было сил сделать хотя бы еще один шаг. Да и куда его тащили? Зачем? Что это все значило?
Круглая светящаяся камера, из которой он зачем-то так нелепо удрал, уже казалась ему родным домом. Там были товарищи. Когда они были рядом, все было не так страшно. Они были вместе, весь маленький экипаж «Сызрани», и все должно было так или иначе образоваться. Даже когда робот схватил Сашку за руку, он был уверен, что все кончится хорошо. Они были вместе… Зачем, зачем он уподобился крысе, которая сумела выскочить из мышеловки. Чушь, крыса может хоть метнуться в подпол, в подвал, спрятаться, оказаться среди сородичей, а он?
Робот внезапно втолкнул его в один из сараев. Внутри было темно. Он остановился. Он ничего не видел после яркого оранжевого света улицы. Он почувствовал прикосновение руки к спине. Робот подталкивал его, но он ничего не видел. Темнота была враждебной, она пугала его. Ему казалось, что впереди провал, что, сделай он еще шаг, он рухнет куда-то в какой-то бездонный колодец.
Робот настойчиво подталкивал его, но он не мог заставить себя идти. Казалось, что провожатый понял, в чем дело, потому что Густов почувствовал, как холодные металлические руки приподняли его, прижали к телу.
«Сколько лет меня не носили на руках!» – промелькнула у него дурацкая мысль. Мать рассказывала ему, что маленький он ни за что не желал ходить, он требовал, чтобы она несла его на руках. Он называл это «ючки». А если на «ючки» его не брали, он демонстративно садился на землю и ревел. Он был плаксивым ребенком.
Он цеплялся за эти далекие земные воспоминания, они были в тысячи раз реальнее и ближе, чем путешествие на руках чудовищного робота в густой темноте. Ему всегда было неприятно представлять себя визжащим и сопливым ребенком, капризным и упрямым, и он ловил себя на том, что сердился на мать, когда она рассказывала ему о его ранних годах, но сейчас картина малыша, размазывающего кулачками слезы по лицу, была невыразимо приятна.
Он почувствовал, что робот остановился, осторожно опустил его на что-то твердое – на пол, наверное.
Боже, как безумен он был, как прекрасна была их круглая тюрьма, светлая, просторная, круглая тюрьма, в которой были товарищи, в которой они могли видеть друг друга, разговаривать друг с другом, черпать друг в друге силы и надежды! Зачем, зачем он удрал оттуда? Зачем он теперь сидит невесть на чем, невесть где в густой темноте, а ребята, наверное, места себе не находят от беспокойства за него.
Нужно было только очень захотеть, очень зажмурить глаза, открыть их – и все окажется по-старому. Командир будет осматривать в сотый раз светящиеся стены, а Марков, вытянувшись на жестком полу, будет молча и скептически следить за ним глазами.
Вся его жизнь была в сущности сплошным безумием. Безумием был выбор специальности. Безумием было стремиться в пустой, нелепо бесконечный и враждебный космос. Для чего? В поисках неведомого? Ха-ха, неведомого! Это отец все виноват. С детства задурил ему голову рассказами о небопроходцах, подарил ему голографический портрет Юрия Гагарина, и первый в мире космонавт улыбался ему, как живой. Он и казался ему живым, когда стоял в своей военной форме в его комнате, и он никак не мог понять, почему его ручонки свободно проходят сквозь фигуру космонавта.
За неведомым он погнался… Будто мало на Земле неведомого, от человеческой души до древних развалин. Безумием было оставить Валю, променять ее милые глаза и теплые руки на жизнь космонавта. Нет, даже не жизнь, а антижизнь. Настоящая жизнь была на теплой и до боли прекрасной Земле, а все остальное – суррогат.
Оставить Валю… Если бы он не любил ее, это еще можно было бы как-то понять. Но он любил ее. Он и сейчас любил ее. Если бы только можно было ощутить в этой дьявольской темноте прикосновение ее руки к лицу… У нее были удивительные руки. Летом они были прохладны, зимой – теплы. И необыкновенно ласковы. Когда она прижимала руки к его вискам, счастье., острое счастье переполняло его. Ему казалось: еще мгновение – и он взмоет к потолку, так полон он был клубившимся в нем восторгом.
Он внезапно все понял. Понял то, чего никогда не понимали врачи, столько раз проверявшие его здоровье. Он психически болен, он безумен. И поступки его безумны. Не так уж важно, каким ученым словом называется его болезнь, но он тяжко болен.
Он застонал и тотчас же почувствовал, как к его лбу что-то слегка прикоснулось. Он дернулся было, но прикосновение было успокоительным. На мгновение ему почудилось, что это Валя протянула ему руку. Нет, это была не Валя. Вале не было места в этой противоестественной темноте.
Где он, куда его привели, зачем? Он должен был услышать хотя бы свой голос, потому что чувствовал, как растворяется в этой дьявольской смеси тьмы и безмолвия, вот-вот исчезнет.
– Куда вы меня привели? – спросил он. – Я хочу к товарищам.
– Ку-да, – услышал он в ответ.
Сердце Густова забилось. В этих двух слогах было хоть нечто, что напоминало ему о нормальной человеческой реакции. Робот повторил его слово. Так повторил бы его человек, не знающий языка, на котором к нему обращаются.
– Я Владимир, – сказал Густов раздельно и внятно, как говорят с новым компьютером, который еще не привык к голосу хозяина.
– Я Владимир, – повторил робот.
«Не слишком содержательная беседа, – вздохнул мысленно Густов. – Беседа с самим собой». Но все равно темнота уже не казалась такой враждебной.
– Я с планеты Земля, – сказал он.
Пусть хоть повторят его слова…
* * *Четыреста одиннадцатый торопился домой. Как ему хотелось включить двигатели на полные обороты, как ему хотелось бежать, бежать, чтобы быстрее очутиться в своем загончике, где его ждет деф!
Сколько времени с того самого момента, как он понял, что он не такой, как другие, мечтал он о том, как встретит того, кого можно будет не бояться. Он жил в мире, в котором ему не было места. Этот мир состоял из одного лишь страха. Страх всегда окружал его, послушно шел за ним, когда он шел, останавливался, когда он останавливался, бежал, когда он бежал. Спрятаться от него было невозможно.
Страх почему-то казался ему липким и холодным, и нужно было постоянно делать усилия, чтобы он не поднялся по туловищу к голове. Как только он поднимется к голове, он тут же сделает ошибку, которая будет последней.
Порой ему остро хотелось быть таким же, как все. Не выделяться, не отличаться, быть взаимозаменяемой частицей их общества. Но этот соблазн был летуч. Пусть он жил в постоянном страхе, но это был ЕГО страх, а если ему суждено попасть в клешни стражников, это будет ЕГО конец. Он остро ощущает свое «я» и ни за что не откажется от него.