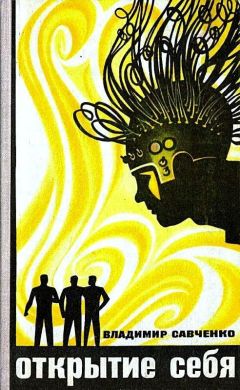Владимир Щербаков - Семь стихий. Научно-фантастический роман
…Удивительное дело — видеть Соолли, говорить с ней, не обмолвившись ни словом о странном ее двойнике! Нет, не допускала она никаких иных объяснений загадки живого: события могли развиваться только так, как я видел ее глазами на дне рождения. И никак иначе. Не стихией была для нее жизнь, а коллекцией любопытных, наполовину изученных экспонатов (среди которых был и я).
Выходило, что играл я с ней в прятки: ни слова, ни намека на гостью, похожую на нее и все же совсем другую. Я чувствовал неловкость, но не мог рассказать ей правду. И не мог после встречи с Аирой вспомнить ее настоящего лица: как будто навсегда стерлось оно в памяти и не видел я никогда того короткого фильма, который мне подарил Янков. Соолли и она — я почти не мог их теперь разделить, их образы сливались.
…Как-то Соолли спросила обо мне. И я потерялся. Кто я, что я? Право, я и сам задаю себе такие вопросы. Но отвечать на них… Я показал ей тех людей, с которыми мне хотелось бы быть после «Гондваны». Пусть эти люди живут лишь в воображении. Как я их видел, как представлял?.. Вот эти кадры.
Мне виделась опушка елового леса, косогор и ручей. Близился час сумеречного серого света, внизу, на траве, под ногами было уже темно, померкли оттенки зелени. Ровный матовый свет неба был близок, как в пасмурный день.
Тихо. Темные зубцы елей касались неба. Их бесконечный ряд слева пропадал за холмом, справа спускался к ручью, а дальше открывалась вырубка. Перед самой стеной леса — груда бревен.
Я сосредоточился и представил людей, сидящих на бревнах. Мне хотелось, чтобы они спели песню для Соолли. Я еще не знал, какая это будет песня. И вот она увидела их так, как будто они были живыми… Человек восемь сидели на бревнах, один стоял, держась за ствол одинокой березы, чуть в стороне от остальных. Больше я не смог бы удержать в памяти: ведь лица их должны быть настоящими, живыми, а это нелегко — видеть всех сразу. Тот, что стоял у березы, был молод, высок и светловолос, с худым лицом и чуть выдающимися скулами. В первом ряду сидели трое, руки их лежали на коленях, на них были пиджаки, темные косоворотки, сапоги. У одного потухшая папироса в руке. Они смотрели прямо на нас. За ними, выше, на бревнах сидели еще пятеро, черты их лиц едва различались в полусумраке.
Я стал придумывать для них песню. Это должна была быть старая песня, такая, какую не часто услышишь. Может быть, та, что спел когда-то мне дед. «Пусть будет так, — подумал я, — ведь Соолли ее не знает».
И тогда один из сидящих, парень в кепке, с потухшей папиросой в руке, негромко начал: «Славное море, священный Байкал…» Он пел просто, как мог, но я просил его тянуть гласные звуки, чтобы передать необыкновенную протяжность мелодии. Голос его стал звонким и ясным. Соолли видела его глаза, серые, внимательные, пристально смотрящие на нее. Она вздрогнула, я заметил это.
Мне хотелось, чтобы в третьей строке почувствовалось странно-красивое сочетание слов «пошевеливай вал», и еще хотелось, чтобы Соолли услышала обращение к ветру: «Эй, баргузин…» Но как передать это, как донести до нее необыкновенные созвучия слов и звуков? Они должны спеть это все вместе, решил я, не подчеркивая мысли, спеть негромко, ровно и звонко. И голоса их вдруг зазвучали. Песня получалась удивительно протяжной.
Я выбрал одного из сидящих впереди, чтобы он громко пропел строку, где так много звуков «р», передающих миновавшую тревогу: «В дебрях не тронул прожорливый зверь…» «Пусть поет громче остальных это место», подумал я. И он спел. У него были чуть раскосые глаза, крепкие скулы, впалые щеки. Он умолк, чтобы слушать, как споют другие.
Они пели по очереди, не сговариваясь, не кивая друг другу, лица их были неподвижны, а взгляд зорок и пронзителен. Третий из сидящих впереди выделил звук «о» в строке: «Хлебом кормили…» И все чувства, как мне казалось, только и можно было передать, подчеркнув это «о». А тот, что стоял у березы, должен был лучше других знать, как звучит долгое «а» и как рождается музыка от незабвенного чередования гласных в словах старой-престарой песни.
И когда песня подошла к концу, я заметил, что лица их изменились. Я прочел на них: «Ну вот, песня спета, и нас теперь не станет — дело простое…» И заметил тонкую усмешку. Мне стало неловко, потому что они как будто все знали, как будто они и впрямь были живыми. И в этом тоже во всем их облике — был я.
* * *
Пятая стихия… Что по сравнению с ней сам океан! Жизнь напоминала сложный механизм, отлаженный с ювелирной тщательностью. Но действие его все же было не вполне понятно. В тончайших нитях молекул, ответственных за наследственность, объединялись все виды простейших движений электричество, химические взаимодействия, механический перенос. А на исследовательском горизонте всегда намечалось что-то новое, неизвестное… Очередные элементы живого.
Каким образом случайные встречи атомов, падающих вертикально, но с незаметными уклонениями, и без которых природа ничего бы не произвела, каким образом эти встречи положили основание небу и земле, самой жизни, прорыли бездну океана, установили движение солнца и луны?.. Вот главный вопрос бессмертной поэмы Лукреция. И ответ на него: «Элементы мира расположились в том порядке, в каком мы их видим, совсем не вследствие ума и размышления: они совсем не уславливались между собой относительно движений, которые желали сообщить друг другу; но, бесконечные числом, движимые на тысячу ладов, подчиненные с незапамятных времен совершенно посторонним толчкам, увлекаемые своей собственной тяжестью, они приближались друг к другу, соединялись друг с другом, при этом возникали тысячи их сочетаний, и наконец время, соединения и движения привело их в порядок — они образовали большие массы. Так возник первый абрис земли, морей, неба, одушевленных существ».
В прохладное утро, в один из последних дней плавания, нам вдруг воочию представилась эта упрощенная модель вселенной, а о первозданном движении живо напоминали пряди тумана над морем и звучащая ткань белопенных волн.
Часть вторая
БЛИЗ БЕРЕГОВ ЗЕМЛИ
СЕВЕР
Фитотрон Янкова расширялся. Почти половина старой площади отводилась для флоры дальневосточной. Как ни странно, никто как будто не помышлял об этом раньше. Считалось: северному фитотрону нужны тропики и саванны со всеми их обитателями. Прежде всего. Затем культурные растения. И уж в третью очередь все остальное.
Но теперь положение менялось: от отдельных реликтовых видов приморской флоры нужно было шагнуть к целым сообществам растений. Это должна была быть управляемая модель целой зоны. Восстановление лесных массивов, возрождение долин — это не поиски вслепую, которые чаще оставляют печальные памятники — запустение, эрозию земель. На воле порой буйствуют сорные травы и кустарники, но пройдет время — сменятся поколения, и на том же самом, безнадежном, казалось бы, месте вырастет лес. Бывает и иначе: поверхностная забота приносит недолговечные успехи, потом — не без помощи человека — леса отступают, реки мелеют, звери и птицы ищут новые места или погибают. Так он мне объяснил…