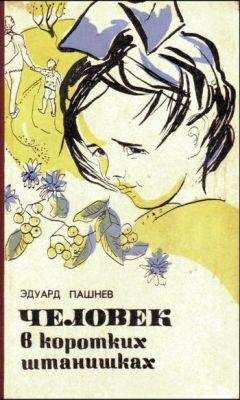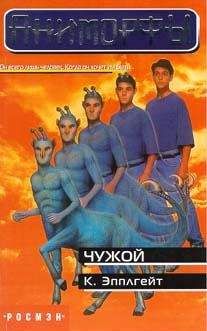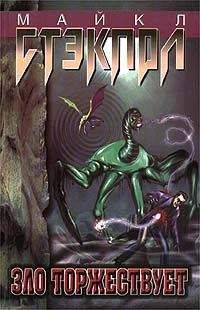Евгений Сыч - Ангел гибели
— Внизу Ася Модестовна, — закивал Марьюшке с усердием.
У самого клуба Леха ожил и вниз спускался почти самостоятельно. «Сошествие во ад?» — только и сказал. Одобрительно, пошутил будто.
Асмодеиха приходу Марьюшки совершенно не удивилась. Заулыбалась всеми своими окружностями, подскочила, как мячик, помогла Мисюру на диван усадить.
— Что с ним? — спросила ласково, успокаивающе.
— Помогите! — взмолилась Марьюшка.
— Да вы не волнуйтесь, голубчик, не волнуйтесь, — замаячила Ася вокруг серого, в кровавых ссадинах лица мягкими своими ладонями. «Боль снимает», — поняла Марья.
Мисюра, как ныряльщик, нырял в пустоту и выныривал. Отходил и снова выпадал.
— Сейчас, — сказала Ася Модестовна. — Здравствуйте, — это уже Лехе, — я врач.
Марья увидела, что смотрит Леха вполне здраво и осмысленно, и отошла с облегчением в угол кабинета, села, ни во что более не вмешиваясь.
— Здравствуйте, — сказал Леонид Григорьевич, внимательно присматриваясь к ускользающей от его взгляда Асе Модестовне.
— Щелкаете? — с пониманием спросила та.
— Щелкаю, — слабо откликнулся.
— Даже, пожалуй, трещите?
— Пожалуй.
— Четыреста? Четыреста пятьдесят?
— Шестьсот рентген.
— Серьезно, — уважительно констатировала Ася Модестовна. — А подбородок где ободрал?
— Упал, — скривил губы усмешкой Мисюра. — Ерунда.
— Ну, хорошо, — приняла невнятные слова Ася Модестовна. — А чего вы хотите?
И отошла от дивана к столу, села на стул. Сразу стала директором. Начальником — из тех, которые решают участь надоедливых посетителей.
Леха пожал плечами:
— Хочу жить. Только медицина тут бессильна, если я правильно понимаю.
— А зачем вам жить? — вежливо и как-то небрежно поинтересовалась Ася Модестовна. Марьюшка, идиотизмом разговора пораженная, вскочила было, но хозяйка ее на место одним движением руки усадила. — Для чего вам жить? Не надоело на одном месте топтаться?
— Странный вопрос, — обиделся Мисюра.
— А вы говорите, не стесняйтесь. Мне абсолютная ясность нужна. Да и времени у вас нет на долгие уклончивые разговоры.
— Видите ли, я не имею права рассказывать что-либо. Подписку давал.
— Не очень они мне нужны, ваши тайны. И узнать их ничего не стоит, вы же ни о чем другом больше не думаете, у вас весь пакет сверху лежит, — сказала Ася Модестовна, проиллюстрировав жестом, как легко вынуть из лехиного сознания заветный его пакет. — Меня не тайны ваши интересуют, а мысли. Что бы вы делали, если бы вдруг выздоровели? Получили у смерти отсрочку, а?
— Вина на мне, — сказал, будто выдавил из себя Мисюра. — По моей вине катастрофа произошла. Люди погибли. Я работать хочу, чтобы всем объяснить, в чем ошибка. Чтобы исправить.
— Мелко, — отозвалась из-за стола Ася Модестовна. — Даже если вас подлечить, в систему обратно никто не возьмет, для них вы — покойник, а мертвому никто не поверит, даже самому здоровому. Авария уже состоялась, погибших не оживить. Что же вы сможете теперь исправить?
— Да, — согласился с ней Леха и почувствовал, что катится опять с крутой горы. Больно было, но не в этом дело, не это суть важно. Жутко было от стремительного этого падения. Птица проснулась в нем, забилась, затрепетала. Не так уж и больно, только жжет внутри и тянет. Накатили пустота и слабость: руки не поднять. Мухи не отогнать. Руки мои, хорошие руки были, умелые. Только зачем они теперь? Теперь голова нужна, а скоро и она ни к чему будет.
— Ася, — взмолилась Марьюшка, робко подала голос. — Помогите ему. Можно ему помочь?
— Много чего можно, — Марьюшка задохнулась, но Асмодеиха посмотрела мимо нее, повернувшись совершенно чужим лицом, и ухмыльнулась так, что губы поползли: верхняя — вверх, нижняя — соответственно вниз, обнажив желтые крупные, точнее, длинные, как у хищных зверей, зубы.
— А просто пожить вы не хотите? — продолжала она допытываться у Мисюры. — Дожить то, что определено вам, без особых физических мучений?
— Не возражал бы, наверное. Только я не знаю, как это: просто жить. Не умею.
— Но ведь вы уже доказали свою полную профессиональную непригодность, чего же вам еще?
— Он был самым талантливым! — не выдержала, вмешалась опять Марьюшка. — Я не знаю, в чем он виноват и как несчастье случилось, но уверяю вас: он был самым способным, и, может быть, просто не дали таланту его расцвести, задавили, подмяли. Если бы кто-нибудь заранее сказал тогда, раньше, что Мисюра — неудачник — не поверили бы, засмеяли.
— Не надо, Марья, — поморщился Леха, — все правильно: кпд моей жизни не выше, чем у паровоза. А что было двадцать лет назад, давно забыть пора. Вспять ведь не повернешь.
— А что, если б вам сейчас вернуться в то время, вы бы иначе жизнь прожили? — заинтересовалась вдруг Ася Модестовна. — А вам, Мария Дмитриевна, хотелось бы опять стать восемнадцатилетней?
— Нет, — содрогнулась от воспоминаний Марьюшка. — У меня все равно ничего не получилось бы. Я жить не умею. Про меня все говорят: не умеет жить. Вот ребеночка я бы родила…
VIII
«Удвояю, — орал худой, — удвояю!»
— Че удвояешь-то? — спросили худого.
— А че попало, — ответил тот. — Че кому надо, то и двою. Не веришь? Давай, чего не жалко.
Дали. Удвоил. Не то, что увеличилось, размер тот же, а второе такое же, не отличишь, рядом стало. Удивились: ну-ка еще! И еще — пожалуйста. Теперь таких же четыре стало. Таких, как первое, хотя какое первое, какое четвертое, не понять, спутать можно. Но в общем, было одно, а стало — четыре.
— А теперь другое удвой, — сказали худому.
— Нет, — обнаглел худой, — это за плату.
— О чем речь! На вот, заранее, удвой только!
Сидит худой и двоит. А толпа перед ним не то что двоится, умножается в ученой прогрессии. Разве ж кто случай упустит? Много чего хорошо бы иметь вдвое против прежнего. А вечером худой уперся. «Все, — говорит, — хватит на сегодня». И как ни уговаривали, что ни сулили — ни в какую. Взял номер в гостинице, взял ужин, бутылочку одну маленькую, сувенирную. Больше ему-то и незачем. Дальше он сам распорядиться сумеет. Закрылся и заснул, видать.
И никто не успел спросить: если годы удвоить, старше летами станешь или моложе? Пребудет века или состаришься вдвое?
А утром худого уже никто не видел, хоть и ждала его очередь на площади с рассвета.
Единственное настоящее время суток — рассвет. Впрочем, об этом уже говорилось.
Мисюра очнулся на диване, старом, якобы кожаном, застеленном чистым бельем. Он был раздет. Одежды не было. Вместо нее лежал в кресле серый пижамный комплект — куртка и штаны на резинке. И тапочки больничные стояли рядом с диваном.