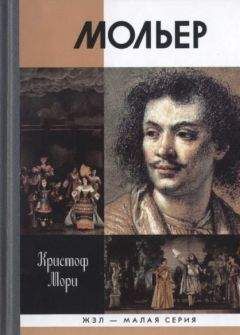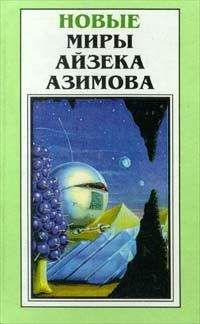Кир Булычев - Возвращение из Трапезунда
Лидочка поднялась с лавочки и прошла поближе к линейкам. Андрей остановился за киоском, чтобы она, оглянувшись случайно, не заметила его. Но Лидочка, окинув взглядом площадь, вернулась к скамейке.
Андрей возобновил свое неспешное движение к автобусу и, когда до автобуса оставалось шагов сто, случайно увидел, как кондуктор поднимается по высоким ступенькам, а в кучке провожающих у автобуса возникает оживление; люди машут руками, и в ответ с автобуса несутся возгласы. Сзади из-под автобуса вырвался клуб белого дыма, это шоффэр включил двигатель.
Андрей понял, что автобус вот-вот уедет, и, забыв о том, что Лидочка может его увидеть, припустил напрямик к автобусу, размахивая чемоданом. Он успел вскочить на подножку в последнюю минуту. Чемодан застрял, Андрей дергал его, автобус медленно разворачивался на площади, кондуктор твердил что-то укоризненное, но помогал тащить чемодан, и, когда Андрей наконец уселся на место наверху, в империале, и поставил чемодан, он увидел, что автобус уже выезжает с площади, а Лидочка, выбежав на середину ее, неуверенно протянула руку в направлении автобуса, будто хотела остановить его. Но до автобуса было уже далеко, и хоть Андрею показалось, что она что-то кричит, звуки до него не доносились.
Вдруг Андрей понял, что, если он сейчас прикажет остановить автобус, соскочит и побежит обратно, к Лидочке, в его жизни произойдет нечто чрезвычайно важное. Но он не мог заставить себя открыть рот, чтобы крикнуть кондуктору.
И это было не воспоминание о Глаше — о ней в тот момент Андрей не думал, — а то странное чувство смущения, которое заставляет утопленников погибать, не издав ни звука, а жертв насилия молчать, хотя неподалеку проходят люди. Это чувство стыда перед нарушением каких-то въевшихся в кровь правил поведения, чувство настолько сильное, что оказывается сильнее страха смерти. Андрей понимал, что должен крикнуть кондуктору: «Стойте! Остановитесь!» Его губы шевелились, но с них не слетало ни звука.
Автобус выехал на дорогу, и ветви тополей закрыли и площадь, и Лидочку, стоявшую растерянно и сиротливо посреди нее.
Только где-то возле Алушты Андрей перестал клясть себя. Он даже открыл конверт, в котором была записка от отчима и двести рублей. Он вынул из пачки десять рублей, заплатил за билет, остальное положил в карман, даже не прочтя записки.
Пока автобус долго стоял в Алуште и пассажиры шумно и жадно ели горячие чебуреки, Андрей чуть было не решился нанять извозчика и вернуться в Ялту. Он взялся за ручку чемодана и тут понял, что не знает адреса Лидочки. Не бродить же всю ночь по городу? А если он встретит отчима или Глашу? Ведь Ялта — маленький городок, и все там на виду. К тому же теперь, по прошествии времени, Андрей все больше убеждал себя, что появление Лидочки на площади — совпадение, а ее жест — удивление по поводу того, что она так неожиданно увидела Андрея.
Только уже поздно вечером на последней остановке перед Симферополем, пока шоффэр заливал воду в радиатор автобуса, Андрей спустился вниз, к фонарю, что горел у придорожного ресторанчика, и при свете его прочел записку отчима. Записка была короткой. Конечно же, отчим написал ее вчера.
Дорогой Андрей!
Как мы и договаривались, даю тебе денег на дорогу до Москвы. Со счета в Коммерческом банке ты будешь получать ежемесячное пособие. Надеюсь, его хватит на скромный образ жизни. Жду тебя на рождественские каникулы.
Сергей. * * *Еще через месяц, уже став студентом университета и снимая комнату в небольшой квартире вдовы Глаголевой на Сретенке, Андрей получил очередное письмо от тети. В него был вложен другой небольшой конверт. Конверт был адресован Андрею Берестову в Симферополь, на Глухой переулок. В тот день Андрей спешил к одному из новых приятелей, на встречу эсдеков, к которым он уже почти примкнул, ибо под влиянием своего однокурсника Погоняйло уверовал в величие Карла Маркса. Он разорвал конверт, ничего не подозревая и даже не затруднив себя размышлением, от кого могло бы прийти письмо.
Дорогой Андрюша!
— начиналось оно. Почерк был крупный, округлый, мягкий, с легким правильным нажимом. —
Думаю, что ты уж забыл обо мне, ведь больше месяца прошло, как ты уехал. Но сегодня мне приснилось, будто ты разговариваешь со мной и хочешь вернуться. Сон — это глупость, я снам редко верю, но я испугалась, что ты надумаешь написать мне, а письмо возьми да попадись на глаза Сергею Серафимовичу. А это его очень огорчит. Так что, пожалуйста, не пиши мне, если захочешь, а если не захочешь, тем лучше. А написать мне можно до востребования на ялтинскую почту.
Ты, может, и не догадался, почему я так холодно попрощалась с тобой, хоть и сердце мое разрывалось. Сергей Серафимович вернулся раньше времени, и что он видел или слышал — одному Богу известно. Он после этого много дней пребывал в горьком состоянии духа и по сей день со мной разговаривает лишь по хозяйственным надобностям, нет между нами былых добрых отношений. Хоть я стараюсь, чтобы все шло по-прежнему. Тебя он не винит, ты не думай. Он во всем винит меня, и поделом, потому что считает тебя заместо сына и видит свою обязанность в твоем благополучии, а меня всегда полагал чем-то вроде твоей мачехи, и в его глазах поэтому мой грех велик и непростителен, как кровосмешение. Он же по-своему любит меня, и мы с ним много лет вместе прожили. Так что если ты хотел приехать к нам на Рождество, то этого делать не надо. Сергей Серафимович может не совладать со своим расстройством и сказать лишнего. Он теперь замкнулся, много пишет, часто уезжает по делам даже в Петербург, на здоровье не жалуется, но знаю, что сердце у него слабое, хотя он никому об этом не скажет.
А я по тебе, Андрюша мой, скучаю. Сейчас осень стоит, дожди, скучно, темнеет рано. И знаю, что грех, а скучаю. Ты, если соберешься написать, напиши на почту, до востребования. Но если все же приедешь на Рождество, вернее всего Сергей Серафимович и виду не покажет.
Надеюсь на щепетильность Марии Павловны, что она письмо не откроет и не прочтет.
С уважением, твоя Глафира.Андрей стоял у окна, держал письмо в руке и смотрел, как по вечерней улице проезжают пролетки. Вода стекала с зонтов немногочисленных прохожих.
Андрей не пошел в тот вечер на сходку эсдеков. Вдруг ему это стало неинтересно.