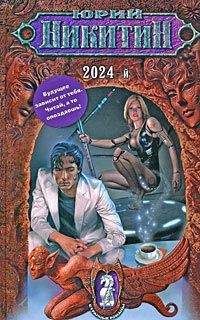Юрий Никитин - Имортист
Я взглянул на часы, повел ее в комнату, усадил на диван.
– Твой муж все еще работает там же в банке?
На миг возникло опасение, не уловит ли она по моему тону, что с ее мужем связано нечто нехорошее. Таня всегда отличалась невероятной, просто сверхчеловеческой чуткостью. Мне показалось, что она насторожилась, однако лишь вздохнула и отвела взгляд. Наша культура выдает иногда странные зигзаги: при всей сексуальной свободе, когда обнаженная женщина на улице уже не нарушение, сейчас эти раскрепощенные эксгибиционистки скорее выполняют ту же функцию на улице, что и букеты свежих цветов, фонтаны или гирлянды воздушных шариков, однако… в семейном плане Таня удивительно старомодна. Ее прабабушка пришла бы в ужас, узнав, что ее правнучка преспокойно занимается сексом с мужем, его приятелями, боссом, коллегами, а если троллейбус долго простоит в пробке, то и с кем-то из молодых парней в салоне, однако к собственно семейным ценностям относится со священным трепетом, исполняет их истово, как в каком-нибудь девятнадцатом веке, чтит родителей и мужа, а также родителей мужа, полностью отдается семье, единственной дочурке и жаждет завести детей много-много, чтобы сидеть возле них клухой и всем вытирать носы. Она инстинктивно держится за эту единственную твердыню, цепляется за нее обеими руками, ибо весь мир если и сошел с ума, то эти ценности – единственная опора в таком урагане.
– Н-нет, – ответила она с запинкой, – его повысили… Сильно повысили, судя по тому, что за ним теперь приезжают на бентли.
– Ого, – удивился я. – Даже не на шестисотом?
Она наморщила носик.
– Шестисотые – это ширпотреб! На них ездит народ попроще, рангом намного ниже. Бентли – это пропуск в элиту.
– Гордится?
– Доволен, – ответила она уже сдержаннее. – Но работы, судя по всему, очень много. Бравлин, я понимаю, что ты хочешь сказать… Если теперь вот с высоты нашего опыта, моего опыта, то мне вообще не стоило выходить замуж!.. Но откуда я могла знать, что встречу тебя? Да и к тому же тогда у меня не было бы такой чудесной дочурки… Нет, я не могу сказать, что у меня плохо, у меня как раз такая жизнь, что все подруги умирают от зависти!.. Муж у меня красивый и умный, мне ни в чем не перечит, мои желания не стесняет, а мои поступки… не ограничивает. И потому я ему верна… да, верна в том забытом смысле, что не предам. А то, что я…
Она запнулась, я договорил:
– Да, это все равно что почесаться. Или выпить стакан кока-колы. Я не об этом, понятно. Твой муж ценит в тебе то, что и я, – твою бесценную душу. Из-за этой жемчужины дивной красоты мы и теряем головы. Таня, но… как же мы?
Она грустно улыбнулась:
– А ты посмотри с позиций имортизма.
Она выговаривала это слово медленно, тщательно, чуть ли не по слогам, в то время как мы давно сократили себя с имортистов до имортов.
– При чем здесь имортизм?
– Разве вы не стараетесь поступать только рационально?
– Да, – ответил я. – Да…
– Ну так где логика?
Я сдвинул плечами.
– Не знаю. Имортизм на самом деле порождение не логики, а чего-то более правильного… но настолько огромного, что просто не втиснуть в слова. Если по логике, я не должен с тобой встречаться, даже по канонам старой морали не должен… я же вторгаюсь, разбиваю семью и все тому подобное. Но почему я не чувствую себя виноватым?.. Значит, по самому большому счету я прав.
Она грустно улыбнулась:
– Говорят, даже Чикатило себя считал глубоко правым.
– Я не Чикатило, – ответил я серьезно. – Я в самом деле всегда подвергаю каждый свой поступок, даже каждую свою мысль – строжайшей проверке на излом. Ну просто инквизитор! И делаю только то, против чего не протестует тот высший закон, что внутри нас. Мне кажется, это все-таки то, что называется любовью.
Таня невесело засмеялась:
– Говорят, что невинную девушку растлевают бесстыдными речами, женщине легкого поведения вроде меня кружат голову почтительной любовью: в обоих случаях – неизведанным плодом.
– Так отведай, – сказал я почти серьезно. – Я отведал…
– Ну и как?
– Горько, – признался я. – Ангелы зовут это небесной отрадой, черти – адской мукой, а люди – любовью. Все-таки такая горечь слаще любой сладости.
– Говорят, что истинная любовь похожа на привидение: все о ней говорят, но мало кто ее видел. И еще, что любовь подобна кори: чем позже приходит, тем опаснее.
– В любви, – сказал я уклончиво, – всегда есть немного безумия.
Она засмеялась:
– Ницше? Но он же сказал, что и в безумии всегда есть немного разума?
– Он ошибался. И любить, и быть мудрым невозможно.
Я поднял голову, наши взгляды встретились. Она застыла на миг с раскрытым для колкости ртом, в ее глазах что-то изменилось, лицо дрогнуло, затрепетали веки, она чуть-чуть отвернула голову вправо, потом влево. Если бы чуть чаще, можно бы сказать, что покачала отрицательно, а так… даже не знаю, что это значило.
– Что случилось? – спросил я тихо.
– У тебя лицо, – проговорила она, – такое…
– Да, что с ним…
– Как в тот, первый день… Нет, не в самый первый, а когда мы снова увиделись. В кафе.
Она запнулась, я гадал, что она хотела или могла бы сказать, но по телу прошел легкий озноб, инстинкты сказали раньше, точнее, они все знают лучше. Ее лицо стало чистым и открытым, я увидел в нем ее жажду, которую не могут погасить ни муж, ни босс, ни все ее мужчины, с которыми легко общалась на вечеринках, на службе, в транспорте или по дороге на работу.
В ее глазах я увидел, что она все то же самое увидела в моем лице. У меня раньше было много женщин, но теперь я уверен, что их не было ни одной, а был так, туман, пар, тусклые миражи.
– Я пойду поставлю кофе, – сказала она поспешно.
Удержать не успел, выскользнула из моих рук, через мгновение на кухне зазвенело, забрякало, послышался шум льющейся из крана воды, а может, и не из крана, в такие дома везут в бутылях из артезианских скважин. Зажужжала кофемолка. Я подошел к окну, с высоты двенадцатого этажа моя машина кажется камбалой, затаившейся на серой ленте асфальта.
Таня вышла из кухни причесанная, словно успела заскочить и в ванную, строгая, как икона, но круглое милое лицо оставалось не по-иконному живым, в больших светло-коричневых глазах глубокая грусть. Я смотрел тоскливым поглощающим взглядом, видел, как настораживается все больше и больше, а левая грудь ее начала подрагивать под тонкой блузкой. Я подошел ближе, кончики моих пальцев бережно коснулись ее подбородка.
– Не надо, – выдохнула она.
– Почему?
– Мы снова попадемся, – сказала она тихо. – Нам не нужно это… сумасшествие.
– А что нужно?
– Ты сам знаешь… Нам это приносит только боль и страдания.