Александр Потупа - Черная неделя Ивана Петровича
- Отсюда! - парировал Аронов, хлопая себя по широкой грудной клетке, и добавил,- Тон вам не нравится... Потому что доделикатничались мы, дособлюдались... Вот вы, вы, например, почему вас в семеркину крестоносную шкуру потянуло? Фросину пособить захотелось, да? Пусть пигалицей, но в приличную касту, верно?
- Да нет, ведь! Ничего подобного! - еще более возмутился Иван Петрович. - Но не нравится мне быть валетом неприкаянной масти, хоть убейте, не нравится.
- Зато семеркой куда как славно! - съехидничал Аронов. - Между прочим, это был джокер. Вот от чего вы отмахнулись.
- Джокер? Ну конечно же, он! - обрадовался Крабов простому разрешению мучавшей его загадки.- Но к чему он в преферансе? Неужели на что-то годен?
- Пора свою игру предлагать, а не в чужой копеечным идеям соответствовать,- извернулся Михаил Львович.- Годность, она, ведь, еще и от правил зависит. Кто правила задает, тот и годен. Доигрались мы с вами, понимаете, совсем доигрались. Так уж сейчас хватит голову-то дурить, сейчас - на Страшном Суде!
- Что за навязчивые образы? - снова, раздражаясь, спросил Крабов.- В наше-то время и в нашенских местах...
- Очень даже к месту и ко времени,- усмехнулся Михаил Львович,поскольку это и есть настоящий Страшный Суд - все мысли наизнанку.
- Но судят-то за деяния, а не за мысли.
- Это там судят за деяния, а здесь - за мысли,- твердо сказал Аронов.Здесь вскрывают подлинную правду, и, поверьте, Господь не использует, подобно некоторым, свои способности для подглядывания в замочные скважины. Понимаете, говорят, за этими дверьми ничего уже нельзя скрыть или представить в ином свете.
- Говорят? - опять удивился Иван Петрович.- А разве многие оттуда выходят?
- Нет,- вздохнул Аронов.- Оттуда мало кто выходит, но кое-какие слухи проникают, знаете ли...
"Это понятно,- подумал Иван Петрович.- Слухи проникают сквозь самые непроницаемые преграды. Там, где не пройдет живой или мертвый, проползет слух. Здорово Львовича крутануло, если он в такую отчаянную мистику ударился..."
- Ну ничего, переживем,- сказал он как можно оптимистичней и подмигнул Аронову.
- Вы так считаете? - снова вздохнул Аронов.- Вашими устами да мед бы пить! Только я вряд ли переживу. Я заразился озлоблением, понимаете, натуральным озлоблением, а это высший грех, неискупаемый грех. Я так и не открыл своей главной темы. Год, два, три, годы - понимаете! - годы, и борьба за идею превратилась в склоку с Самокуровым, который меня за что-то возненавидел, и настал момент, когда я ему отплатил тем же. Надоело, зверски надоело расплачиваться за все годами, годами, годами... За чей-то интеллектуальный нарциссизм - своими годами, за чье-то желание гонять по заграницам ради ярких тряпок - своими годами, за чье-то ущемленное и давным-давно загноившееся самолюбие - своими лучшими годами... И я впал в смертный грех - однажды расплатился с судьбой ненавистью к Самокурову и иже с ним, озлобился на все, что его породило и позволяет ему процветать, и на себя за то, что я, вы меня, надеюсь, понимаете, не могу ничего доказать напрямую и должен перебиваться какой-то дохлой словоблудной дипломатией перед разнокалиберными мурцуфлами, которых вы добросердечно подозреваете в ощущении клетки времени, а они ощущают только вашу собственную клетку, ими же созданную, и понимают, что деваться вам в общем-то некуда, и любуются вашим инстинктом самосохранения и вашим бессилием. И теперь я боюсь, что договорился и уж наверняка додумался. Не спустят мне этого, Иван Петрович, никак не спустят. И Фаины Васильевны не спустят, и преферанса по субботам, и "Мизера втемную", которой я так и не смог дописать...
Иван Петрович застыл от удивления. Он с радостью дослушал бы монолог Аронова но, к сожалению, в этот момент огромная дверь бесшумно отворилась, и мощный голос товарища Пряхина позвал:
- Товарищ Крабов, мы вас ждем. На работу нельзя опаздывать!
И запела, заполняя унылое коридорное пространство многообразием тем от византийских аккламаций до переливчатых трелей звонка у вертушки НИИТО,запела труба, должно быть, архангелова, во всяком случае, необычная, ибо ничего похожего Ивану Петровичу до сих пор слышать не доводилось.
Воодушевленный знакомыми нотками, Иван Петрович ободряюще кивнул Аронову и проскользнул за дверь.
Зал, открывшийся перед ним, не был мал или велик - Иван Петрович сразу понял, что в данном случае отказывают все категории сравнения. Возможно, зал следовало считать бесконечным в пространстве и во времени и даже объективно существующим вне сознания и независимо от ощущений, но Крабов не очень хорошо представлял себе, облегчит ли такая оценка его дальнейшую участь.
Вдали на великолепном троне восседало нечто нечеловечески совершенное, воспринимаемое как многомерное Сияние, притягательное и грозное, заставляющее жмуриться и испытывать нарастающие сердечные вибрации.
Неверующая душа Крабова, вернее, та информационная структура, которая должна заменить душу подлинного атеиста, слегка смутилась. Все происходящее воспринималось ею как своеобразное цирковое представление не слишком интригующим пока подтекстом. "Уж не погружаюсь ли я в мир раздраженного Ароновского воображения? - скользнул в его душезаменителе полувопрос-полудогадка.- Или своего, или чьего-то еще... Пересечение раздраженных воображений создает грандиозную исповедальню - это что-то новенькое, но вряд ли перспективное".
Товарищ Пряхин записал Крабова в свой знаменитый черный блокнотик, а потом кто-то юркий и очень толковый разъяснил Ивану Петровичу, что ему следует пройти к специальному столику у подножия престола Господня и принять участие в выездной сессии Страшного Суда в качестве лица отчасти посвященного.
Иван Петрович так и не уразумел, что есть отчасти посвященное лицо наверное, вроде кандидата в смысле Фросина,- но зато перед ним, кажется, раскрылся источник его проклятого дара.
"В течение недели я служил для них простым экспериментальным буйком, самокритично и даже с долей трагизма думал он,- на мне, вернее, с моей помощью отрабатывали приемы вытягивания чужих мыслей с тем, чтобы сегодня подвести черту и окончательно обречь кого-то на пытки, а кого-то прославить. Но зачем, зачем все это? Кому это необходимо?"
В голову Ивана Петровича потоком хлынули мысли подсудимых, или подвергаемых, как их определило Сияние. Зловонными пузырями поднимались со дна очередной заблудшей души невообразимые деяния и замыслы и лопались на поверхности мозга, обстреливая членов суда самыми странными и нередко отчаянными сигналами. В вихрях этих сигналов пронесся перед Иваном Петровичем Аронов, которого приговорили к пожизненному редактированию "Мизера втемную" и к самоотверженной работе над темой Самокурова. Выезд в ад Михаилу Львовичу категорически запретили по режимно-моральным соображениям.

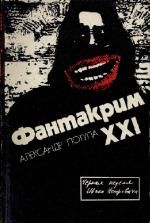

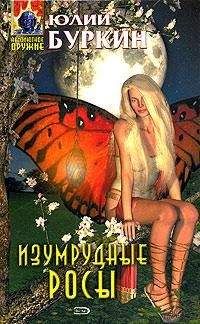
![Александр и Лев Шаргородские - Министр любви [cборник рассказов]](/uploads/posts/books/226450/226450.jpg)