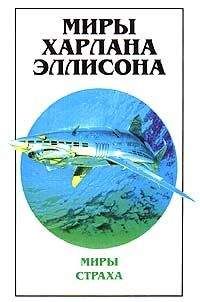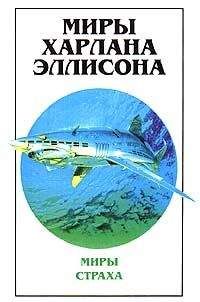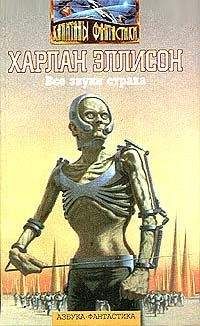Харлан Эллисон - Миры Харлана Эллисона. Т. 1. Миры страха
Он мог читать наизусть из «Красного и черного» Стендаля, из «Смерти после полудня» Хемингуэя, из «Моби Дика» Мелвилла до тех пор, пока каждое слово не теряло смысл, не звучало странно и неправдоподобно в его ушах.
Ему было вздумалось жить в грязи и швырять чем ни попадя в закругленные стены и потолки. Вещи делались с тем расчетом, чтобы сгибаться и отскакивать — но не ломаться. Стены амортизировали удар брошенного бокала или остервенелого кулака. Потом пришла предельная аккуратность, потом умеренность и наконец опять-таки аккуратность, сухая нервическая кропотливость старика, который в любой момент желает знать, где что лежит.
Никаких женщин. Долгое время это было нескончаемой мукой. Нарастающая боль в паху и животе властно будила по ночам, заставляя обливаться потом, сводя болью рот и тело. Феррено преодолел это не сразу, даже порывался себя кастрировать. Разумеется, ничто не помогло, беда миновала только вместе с молодостью.
Он принимался разговаривать сам с собой. Отвечал на собственные вопросы. Не безумие — лишь страх, что дар речи может быть утрачен.
Безумие вздымалось не раз на протяжении ранних лет. Слепая грызущая тяга выйти вон! Выйти вон в безвоздушные просторы Камня. Наконец умереть, покончить с этим никчемным существованием.
Но квонсет соорудили без дверей. Те, кто его сюда доставил, вышли через щель, которую за ними намертво затянуло пласталью, и выхода там не было.
Безумие приходило часто.
Однако выбор пал на него далеко не случайно. Он цеплялся, за свое здравомыслие, знал, что в нем его единственное спасение. Сознавал, что было бы гораздо ужаснее закончить свои дни в этом квонсете беспомощным маньяком, нежели сохранить здравый ум.
Феррено не переступил критическую черту и вскоре стал все больше удовлетворяться своим миром в скорлупе. Он ждал, поскольку делать ему было больше нечего; и в ожидании умиротворенность сменилась бешеным нетерпением. Он стал считать это тюрьмой, потом гробом, потом — окончательной чернотой Последней Дыры. Он просыпался в безжалостной ночи, задыхаясь от горловых спазм, руки яростно когтили губчатую резину кушетки.
Время ушло. Миновала грань, за которой он уже не мог сказать, как оно ушло. Жизнь стала сухой, как пыль, и временами Феррено сомневался, действительно ли он все еще живет. Не будь у него автоматического календаря, он вряд ли знал бы, что прошли годы.
И всегда, всегда, всегда огромное тусклое сонное око сигнала тревоги. Пристально глядящее ему в спину, скрытое в потолке.
Оно соединялось со сканерами — теми, что громоздились за квонсетом. Сканеры, в свою очередь, взаимодействовали с плотной сетью межпространственных лучей, смыкающихся в самой дальней точке горизонта, какую только Феррено мог себе представить.
В свою очередь, узлы сети были связаны со сторожевыми установками — их металлические и пластиковые умы тоже выжидали, наблюдали за беспощадными враждебными чужаками, которые могут однажды явиться.
Враг уже приходил, о нем знали: были обнаружены следы причиненных им разрушений. Остатки великих и могучих цивилизаций, превратившихся в микроскопическую пыль после вторжения страшного захватчика.
Те, кто забросил сюда Феррено, не отваживались странствовать по Вселенной, пока где-то существуют Другие. Где-то… выжидают. Установили межпространственную сеть, соединенную со сторожевыми установками. Вся система замыкалась на сканерах, к которым был подключен большой тусклый «глаз» в потолке квонсета.
Затем Феррено поставили здесь часовым.
Поначалу он нес службу ревностно. Ожидая, был уверен: то, что должно явиться, произведет громоподобный шум, нарушит вечное молчание его мыльного пузыря. Он ждал кровавых отблесков, фантастических теней, пляшущих по комнате и мебели. Он даже провел пять месяцев в размышлениях: какую форму примут эти тени, когда час пробьет.
Затем Феррено вступил в период неврастении. Беспричинно вскакивал и таращился на «глаз». Галлюцинации: звон в ушах, мерцание. Бессонница: может свершиться, а он и не услышит.
С течением времени Феррено все больше отстранялся от «глаза», надолго забывая о его существовании. Покуда окончательно не понял: она была безотлучно с ним, эта муторная штука, о которой то и дело забываешь, такая же его часть, как собственные уши, собственные глаза. Он выявил это в глубинах памяти, но это было там всегда.
Всегда там, всегда начеку, всегда готовое вырваться.
Феррено никогда не забывал, почему он здесь. Он никогда не забывал, по какой причине его забрали. И день, когда за ним пришли.
Вечер был бледен и полон звуков. Флаеры стрекотали в воздухе над городом, на траве играли в крикет, шум голографа доносился из гостиной дома.
Крепко обнимая свою девушку, он сидел на веранде, на скрипучей качалке, которая чмокала стенку каждый раз, когда они чересчур откидывались назад. Он как раз отхлебнул лимонада — запомнился его освежающе-кислый вкус, — когда трое мужчин шагнули из сумерек на веранду.
— Вы Чарльз Джексон Феррено, девятнадцати лет, шатен, карие глаза, рост — пять футов десять дюймов, вес — 158 фунтов, шрам на правом запястье?
— Д-да… а что? — пробормотал он.
Вторжение этих незнакомцев, да еще в самые интимные мгновения, повергло Феррено в замешательство.
Затем они схватили его.
— Что вы делаете? Отпустите его! — вскричала Мари.
Перед ней мелькнуло светящееся удостоверение, и она испуганно умолкла, подавленная их властью. Затем они поволокли его, воющего, во флаер, черный и безмолвный, и вихрем понеслись в пустыню Невада, к пласталевому зданию, где размещалась штаб-квартира Центральной Космической Службы.
Методом гипноза его обучили обслуживанию межпространственной связи. Навыки, которые он сам не обрел бы и за двести лет — перебор миллиона вариантов подключения, — внедрили в него механически.
Затем его подготовили к полету.
— Зачем вы так со мной поступаете? Зачем вы меня забрали? — кричал он, в отчаянии пытаясь разодрать шнуровку герметического костюма.
Ему объяснили. Марк LXXXII. Сквозь платиновое нутро просеяли сорок семь тысяч перфокарт, и лучшим среди всех был признан Феррено. Выбор пал на него. Безукоризненно точная машина сообщила, что он наименее подвержен сумасшествию, унынию, срывам. Он был лучшим, и служба нуждалась в нем.
Потом — корабль.
Нос чудища был нацелен прямо в безоблачное небо, самое голубое и ясное, какое Феррено когда-либо видел. Затем — грохот, рев и перегрузка, когда корабль ринулся в космос. И почти неощутимая тряска, когда судно заскользило через гиперпространство. Странствие сквозь млечную розоватость не-пространства. Затем опять тряска и — там! Направо-налево-не-доходя-упрешься — вот он, голый маленький астероид с пупырышком квонсета.