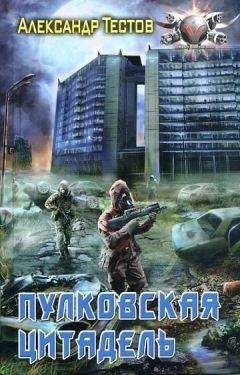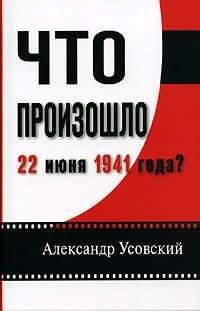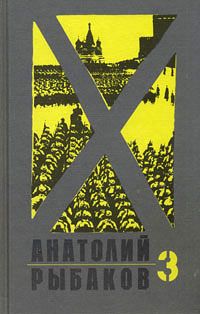Александр Усовский - Эра негодяев
Подполковник встал, прошелся по своему кабинету. Придется вносить коррективы в операцию 'Обилич', теперь ему это очевидно. Надо идти к генералу.
Левченко вышел в коридор — и чуть ли не нос к носу столкнулся с Калюжным, только что вошедшим в здание Управления. Генерал от неожиданности едва не споткнулся, удержался, и, увидев, кто едва не стал виновником его падения — тут же развел руками:
— О! На ловца и зверь! Дмитрий Евгеньевич, ты мне нужен. Пошли в мою халабуду.
Они поднялись в кабинет генерала, и хозяин, пригласив своего зама сесть (но сам оставшись стоять), спросил у подполковника:
— Левченко, ты когда последний раз со своей матерью разговаривал?
Подполковник несколько озадачился. Подумал, поморщив лоб, и ответил:
— На октябрьские я ей звонил, поздравлял. А разговаривать… В отпуске, в июле.
— Скверно. Чаще надо с матерями разговаривать. Я тебе сейчас расскажу, как в Рязань съездил, а ты послушай, может быть, проникнешься.
Знаешь, Левченко, странные дела творятся нынче на свете. Ездил я сегодня утром в Рязань, к матери Максима Полежаева. Форму надел, ордена, какие под рукой были — в общем, все, как положено. Сел в машину, еду — а в душе черным-черно. Главное, думаю — как же мне это ей сказать? Погиб сын, погиб где-то в чужом краю, и не знаю я, где его похоронили, куда матери на могилку поехать… В общем, скверно так, что впору самому в петлю.
Ну да это ладно. Приехал. Хрущовка пятиэтажная, малость подзаброшенная. Двушка, что в адресе указана — на пятом этаже, под самой стрехой. Ладно, ползу по лестнице, душою мучаюсь.
Открывает мне женщина, пожилая, но такая… Как тебе сказать? Из старых советских учительниц, короче. Какие до самой смерти форму держат.
Зашел, представился. Дескать, генерал Калюжный, начальник службы, где сын ее служил. И вот при слове 'служил' она так на меня глянула… Не передать словами. И спрашивает: 'Он погиб за правое дело?' Меня, Левченко, дрожь до самых печенок пробила! Я ведь, ты понимаешь, только ей собирался сказать, дескать, мужайся, мать — а она на меня через очки так строго — зырк! Как будто я ученик ее, да еще не очень старших классов. А главное — спрашивает, за что погиб ее сын! Не как и когда — а за что! Ну, я ей, натурально — так точно, Екатерина Ивановна, погиб, выполняя важное задание, на боевом посту, в Болгарии. А она мне: 'Слава Богу, что он пал в бою. Умереть за Отечество — высшая честь для мужчины'. А сама… Слезы из уголков глаз, и такое в этих глазах горе, Левченко… Не передать. Потом спрашивает, можно ли узнать подробности. Я ей, понятное дело, ничего не сказал, лишь сообщил, что служил капитан хорошо, задание выполнил с честью, но, поскольку служба у него была секретная — то официально ей помощи ждать не стоит. Но что я уполномочен ей выдать пособие по утрате кормильца — и пакет, что мне Маслов подготовил, ей сую. Взяла она его, и, как ненужную хрень, в сторону отложила. И спрашивает: 'Товарищ генерал, мой Максим всю свою недолгую жизнь мечтал побывать на Шипке. Даже болгарский язык выучил. Скажите — он там был?' Соврал я, Левченко. Ведь не знаю точно, был ли, не был — но ответил бодро: был, дескать, дорогая Екатерина Ивановна, мечту осуществил. Она вздохнула так облегченно, и сообщает мне, что была у капитана нашего в Рязани симпатия, и собирается эта симпатия через три месяца рожать — причем Максимова сынишку, по всем признакам; так не против ли я, чтобы она, мать погибшего, эти вот деньги его новорожденному сыну передала?
Заплакал я, Левченко. Честно тебе скажу. Не выдержал. Да и кто выдержит такое?
И тут она меня взялась успокаивать! Дескать, ну что вы, товарищ генерал, офицеры для того и идут на службу, чтобы рисковать жизнью… Офицерская честь, дескать, не велит бежать от опасностей — и много чего еще она тогда сказала.
В общем, вышел я от нее в таком сознании нашей правоты, что ты себе даже не представляешь. Если такие женщины в нашей стране еще остались — мы с тобой, брат Дмитрий Евгеньевич, им в пояс должны кланяться, и каждый миг о них помнить — когда свою службу служим. Потому что, пока живы такие вот Екатерины Ивановны — будет стоять Россия; и не мы с тобой ей опора, хоть и пыжимся и героев из себя строим — а они, матери наши, соль земли русской.
Генерал закурил, поднялся из-за стола, подошел к окну.
— Чертов ноябрь. И еще дней сорок день будет все меньше, ночь — все длиннее. К двадцатому декабря будет вообще казаться, что стылый сумрак окончательно добил солнечный свет. У тебя нет такого чувства, Левченко?
— Есть. Каждый год у меня в это время червяк какой-то в душе заводится.
— Страна наша сегодня — в глухом ноябре. Кажется, что все, будущего нет. Чеченскую войну позорно просрали, союзников нет, влияние в мире — уже и забыли, что это такое. Чуть ли не отрицательная величина в мировой политике сегодня Россия. У руля — какие-то твари без чести и совести, свалка ворья. Время негодяев… Так?
— Общее впечатление именно такое.
— У меня до сегодняшнего утра было такое, знаешь, поганенькое чувство, что зря мы продолжаем нашу работу. Скверные мыслишки стали появляться, пакостные. Мол, все напрасно, зазря людей губим, напрасно шерудим по Европам. И не проще ли было бы те деньги, что идут к нам от наших фирм, и которые мы на разные шпионские злодейства тратим — людям нашим простым раздавать, какие по полгода зарплат не получают. Может, и больше было бы толку. А вот поговорил с матерью капитана Полежаева — и опять в своем деле на все сто уверен, и с новыми силами готов на невидимых фронтах врагу единоборствовать. Понадобиться — и сам с ракетой у вражьей базы встану. Веришь, Левченко?
— Верю, Максим Владимирович. — В ответе подполковника не было никакого чинопочитания. Левченко знал, что по молодости лет генерал бывал в разных переделках, а в Анголе, во время кровопролитных боев под Квито-Кванавале, где кубинцы, не жалея, густо клали лучших своих ребят — был даже тяжело ранен. Но сегодняшние слова Калюжного удивили даже его заместителя. Да-а, видно, серьезно задела главную струну в генеральской душе мать павшего капитана Полежаева.
— Так вот, Левченко. Знаешь, зачем мы ведем эту нашу тайную войну? А ведем мы ее, друг мой ситный, чтобы приблизить для России апрель. Он так и так наступит, ты в этом не сомневайся, подполковник. Только с нашей помощью — быстрее. Вот что я передумал, пока из Рязани возвращался.
Ладно, оставим лирику пока в сторону. Что-то у тебя личико озабоченное. Случилось что?
— Да нет, ничего серьезного. Просто думаю срок доставки комплексов в Европу немного сдвинуть.
— Зачем?
— Контора течёт. Мы эти комплексы, конечно, доставим чисто, не наследим. Но если им придется где-нибудь в той же Венгрии лежать без дела два-три месяца — есть опасность, что кто-то где-то что-то узнает. А их мы ну никак за канализационные трубы не выдадим.