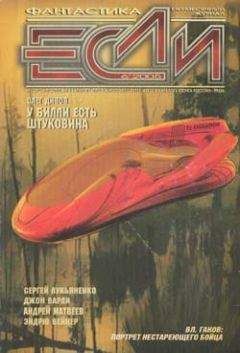В чертогах марсианских королей - Варли Джон Герберт (Херберт)
А потом я узнал о Касании. Это лучший вариант, как описать это одним английским существительным. То, чем они называли этот язык четвертого уровня, менялось изо дня в день, как я попробую объяснить.
Впервые я о нем узнал, когда попытался увидеться с Джанет Рейлли. Я теперь знал историю Келлера, и Джанет очень заметно фигурировала во всех рассказах. Я был знаком в Келлере со всеми, но нигде не смог ее найти. Я всех знал по именам, таким, как Шрам, Женщина-без-переднего-зуба или Мужчина-с-вьющимися-волосами. Эти имена на амслене я дал им сам, и все они приняли их без вопросов. Своими «мирскими» именами они в коммуне не пользовались. Они для них ничего не значили, потому что ни о чем не говорили и ничего не описывали.
Поначалу я предполагал, что из-за несовершенного знания стенографии не в состоянии ясно задать правильный вопрос о Джанет Рейлли. Потом понял, что мне не отвечают сознательно. Я увидел причину, одобрил ее и больше об этом не думал. Имя Джанет Рейлли описывало, кем она была во внешнем мире, а одним из первоначальных условий Джанет, выдвинутых для продвижения самой идеи общины, стало то, что она не будет в ней особенной. Она растворилась в группе и исчезла. Не хотела быть найденной. Хорошо.
Но, задавая этот вопрос, я узнал, что у каждого члена коммуны вообще нет конкретного имени. Что у Пинк, например, не менее ста пятнадцати имен, по одному от каждого члена коммуны. Каждое из них было контекстуальным, описывающим историю отношений Пинк с конкретным человеком. Мои простые имена, основанные на физических описаниях, были восприняты как имена, которые дает людям ребенок. Дети еще не умеют проникать под внешние слои и используют имена, говорящие о себе, их жизни и отношениях с другими.
Еще больше запутывало то, что имена изо дня в день менялись. Это был мой первый намек на Касание, и он меня испугал. Это был вопрос пермутаций, преобразований. Уже первое простое расширение проблемы означало, что в обращении находится не менее тринадцати тысяч имен, причем они не останутся постоянными, и я не смогу их выучить и запомнить. Например, если Пинк говорит со мной о Лысом, она будет использовать его Касательное имя, модифицированное тем фактом, что она разговаривает со мной, а не с Коротышкой.
Затем передо мной раскрылась бездна того, что я пропускаю, и от страха высоты у меня внезапно перехватило дыхание.
На Касании они разговаривали друг с другом. Это был невероятный сплав всех трех способов общения, которые я освоил, и главное заключалось в том, что он никогда не оставался неизменным. Я мог слушать, как они разговаривают со мной на стенографии, которая была реальной основой Касания, и сознавать, какие потоки Касания текут прямо под поверхностью.
Это был язык изобретения языков. Каждый говорил на своем диалекте, потому что каждый говорил на отличающемся инструменте: другое тело и другой жизненный опыт. И его модифицировало что угодно. Он не мог стоять на месте.
Они могли сидеть на Общении и изобретать за вечер целый блок откликов на Касании – идиоматических, личных, полностью обнаженных в своей честности. И использовали его только как строительный блок для языка следующего вечера.
Я не знал, хочу ли я быть настолько обнаженным. Недавно я заглянул в себя и не был удовлетворен обнаруженным. Понимание, что каждый из них знает обо мне больше, чем я сам, потому что мое честное тело рассказывает то, что мой испуганный мозг не хочет раскрывать, потрясло меня. Я стоял голый под прожекторами в Карнеги-холле, и меня терзали все кошмарные сны, в которых я бегал без штанов. Того факта, что все они любили меня со всеми моими недостатками, внезапно стало недостаточно. Мне хотелось свернуться в клубочек в темном чулане со своим вросшим эго и позволить ему мучиться.
Я мог бы преодолеть этот страх. Пинк точно старалась мне помочь.
Она сказала, что эта боль будет недолгой, что я быстро приспособлюсь жить со своими самым темными эмоциями, написанными огненными буквами на лбу.
По ее словам, Касание также не столь сложный язык, как кажется поначалу. Как только я освою стенографию и язык тела, Касание потечет из них естественным образом, как сок по стволу дерева. Этот язык станет неизбежен. Это то, что произойдет со мной совсем без особых усилий.
Я ей почти поверил. Но она выдала себя. Нет, нет, нет. Не это, а то внутри нее, что относилось к ***ию, убедило меня, что если я пройду через такое, то лишь упрусь головой в следующую ступеньку лестницы.
Сейчас у меня есть немного лучшее определение. Оно не из тех, что можно легко перевести на английский, и даже эта попытка передаст лишь смутную концепцию того, что это такое.
– Это режим касания без касания, – сказала Пинк.
Ее тело отчаянно пыталось передать мне ее несовершенную концепцию того, что это такое, да еще преодолевая мою безграмотность. Ее тело отрицало правдивость ее же стенографического определения и одновременно признавалось мне, что она сама не знает, что это такое.
– Это дар, посредством которого человек может выйти за границы вечной тишины и мрака в нечто иное.
И опять ее тело отрицало это. Отчаявшись, она ударила по полу.
– Это атрибут постоянного пребывания в тишине и мраке, касаясь других. Наверняка я знаю только то, что зрение и слух делают это невозможным или скрывают. Я могу создать для себя такие тишину и мрак, как только смогу, и осознавать их границы, но визуальная ориентация сознания будет преобладать. Эта дверь закрыта для меня и для всех детей.
Использованный ею в первой части глагол для «касания» был сплавом Касания: тем, что возвращалось в ее воспоминания обо мне, и того, что я рассказал ей о своей жизни. Он заключал в себе и вызывал в памяти запах и ощущение сломанных грибов под амбаром, испытанные вместе с Высокой Зеленоглазой, которая научила меня чувствовать суть предмета. Он также содержал ссылки на наши телесные разговоры, когда я проникал в ее темноту и влажность, и ее отчет для меня о том, что она чувствовала, принимая меня в себя. И все это было одним словом.
Я долго над этим размышлял. В чем смысл страданий через обнаженность Касания? Только в том, чтобы достичь уровня несостояшейся слепоты, которой наслаждалась Пинк?
Уж не это ли упорно выталкивало меня из единственного в жизни места, где я был счастливее всего?
Одной из причин стало осознание, пришедшее довольно поздно и которое можно свести к вопросу: «Что, черт побери, я здесь делаю?» На этот вопрос следовало ответить другим: «Что, черт побери, я стану делать, если уйду?»
Я стал единственным гостем, единственным за семь лет, кто пробыл в Келлере дольше нескольких дней. Я размышлял и об этом. Я не был достаточно силен или уверен в собственном мнении о себе, чтобы увидеть это как что угодно, кроме как недостаток во мне, а не в тех, других. Очевидно, я был слишком легко удовлетворен, слишком благодушен, чтобы увидеть недостатки, которые увидели другие.
Это не обязательно должны были быть недостатки в людях Келлера или в их системе. Нет, я слишком их любил и уважал, чтобы так думать. То, что они создали, безусловно, максимально приближалось, как никто и никогда не создавал в этом несовершенном мире, к разумному и рациональному образу существования людей без войн и с минимумом политики. В конце концов, два этих старых динозавра – единственные открытые людьми способы, как быть социальными животными. Да, я вижу войну как образ жизни с другими: навязывание другим своей воли на условиях настолько недвусмысленных, что оппоненту остается или покориться тебе, или умереть, или вышибить тебе мозги. И если это решение для чего-либо, то я лучше буду жить без решений. Политика ненамного лучше. Единственный довод в ее пользу – ей иногда удается заменить кулаки разговорами.
Келлер был организмом. Новым способом установления отношений, и он, похоже, работал. Я не проталкиваю это как решение всех мировых проблем. Возможно, такое способно работать только для группы с общим личным интересом столько же связывающим и редким, как глухота и слепота. Не могу представить другую группу, чьи потребности настолько же взаимозависимы.