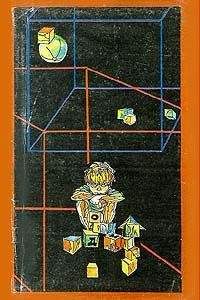Вячеслав Рыбаков - Очаг на башне. Фантастические романы
– А что такое?
– С ним произошел несчастный случай, – сухо сказал я. Что это он врачебные тайны выведывает! Так не делается! – От этого, увы, никто не застрахован.
А потом решил сменить гнев на милость.
– Представьте, он мне дал дискету со своими последними работами, я прихожу, чтоб вернуть – а он пропал. Я туда, я сюда. А он уже в больнице…
Нет, дискета и его не заинтересовала. Как и лже-Евтюхова. Видимо, дело было не в работах Сошникова, а в самом Сошникове. А вот мы с другой стороны попробуем…
– И ведь обида какая, – продолжал я болтать. – Он буквально на днях должен был уехать в Штаты, уже и приглашение получил в Сиэтл.
В нем полыхнуло. Виду он не показал, правда, но я понял: для него очень важно то, что я знал об отъезде.
Однако для него самого это известие не было новостью. Он-то тоже знал. Ему важно было именно то, что об этом знаю я. И я определенно почувствовал, что его желание наладить со мною контакт усилилось.
Свихнулись они все, что ли?
– Какого же рода несчастный случай? – настойчиво спросил Бережняк.
– Ну, это врачебная тайна, – ответил я. – Давайте все-таки о вас.
– Давайте, – согласился он. У меня было отчетливое впечатление, что в мысленном перечне вопросов, которые он пришел сюда выяснять, против номера первого он поставил аккуратный жирный плюс.
Я посмотрел ему в глаза. Он помедлил.
– Я, знаете, патриот, – сказал он и усмехнулся со стариковским беспомощным добродушием. Но глаза остались холодными и цепкими, и он буквально буравил меня: как я отнесусь к его словам?
Я пожал плечами.
– Я тоже, – сказал я. – И не стесняюсь этого. А вы, по-моему, стесняетесь.
Ага. Попал. У него екнули скулы.
– Я не стесняюсь, – отчеканил он. И сразу овладел собой. – Просто мне кажется, что в интеллигентной, знаете, среде к этому слову относятся с определенным предубеждением. Что патриот, что идиот… что фашист. Сходные, прямо скажем, понятия. Нет?
– Нет, – спокойно ответил я. – Люди, Викентий Егорович, разные. Что бы ты ни сделал – всегда найдется кто-то, кому твой поступок покажется неправильным, глупым, непорядочным. Ну и пусть покажется.
– Вы, Антон Антонович, молоды, – почти не скрывая зависти, произнес он. – Уверенность в себе, крепкие нервы, вера в будущее, которое у вас есть просто в силу возраста. Мне труднее.
Мне показалось, что он сидел. Давно. Еще, скажем, при Совдепе. Что-то такое мелькнуло у него в памяти, когда он говорил о будущем. Ого.
– Я понимаю.
– Хорошо. Так вот. Лет тридцать назад наша с вами страна, по глубочайшему моему убеждению, во множестве наук обгоняла весь остальной мир годков этак, знаете, на двадцать. Демократическое вранье, что ученому лучше всего работать на свободушке.
– Вы думаете? – вежливо уточнил я.
– Думаю, Антон Антонович! – убежденно повторил он. – И думы свои подтвердил экспериментально. Лучше всего ученые работают за решеткой. Там, где с них сняты заботы и о быте, и о досуге. И о покупках, и о ценах. И об отпусках, и о подругах, и о всяких там хобби. Но зато и самоутверждаться больше нечем, как только, знаете, работой. Спасаться от унижения и тоски больше нечем. И ум, и душа, и силы телесные, ежели учесть полное отсутствие подруг – все в одну точку бьет. Лично для ученых это, знаете, ужасно, отвратительно и смертельно подчас. Но для науки это черт знает, как хорошо!
– Интересная мысль, – сказал я. – Но вот тогда вопрос – зачем, в таком случае, вообще наука?
Он запнулся. Я пожалел, что его прервал – и зарекся на будущее вплоть до особого распоряжения. Надо было дать ему выговориться. Он не врал, и не выдумывал даже. Забавно – он говорил сейчас о самом сокровенном. Я чувствовал, что ему об этом поговорить, в сущности, не с кем; давным-давно не с кем. Он был не лже-Евтюхову подлому чета. Он меня вовсе не провоцировал и прощупывал – он искал реального контакта.
Он единомышленника искал, Господи!
– Об этом чуть позже, – сказал он. – Сначала обо мне.
– Простите, – совершенно искренне проговорил я.
– Потом было некоторое, исторически весьма короткое время, когда НИИ стали малость посвободней тюрем. На ученых свалился проклятый быт. Все эти хлопоты, сопряженные со свободной жизнью – жены, дети, пропитание, отпуска, поликлиники… Но зато, знаете, выручало то, что наука не была ориентирована на немедленный применимый результат. В семидесятых, знаете, мы торчали в очередях, но взахлеб спорили о внеземной жизни, о кварках, о темпоральных спиралях… Не за деньги, а потому, что нам это было интересно, интереснее очередей! А, скажем, американцы, которые не торчали в очередях, непринужденные беседы за коктейлями вели в лучшем случае о спорте – какая же все-таки команда какую отлупит в будущую среду, «Железные Бизоны» или, понимаете, «Бешеные крокодилы». И потому быт, при всей его омерзительности, не мешал тем, кто хоть чуть-чуть имел извилин подо лбом и за душой. Наоборот – помогал. Помню, от очередей, знаете, лучше всего было отключаться размышлениями. Именно в очередях мне приходили в голову самые замечательные мысли.
Ну-ну.
Я тут же вспомнил, как па Симагина осенило нечто совершенно гениальное в ТОТ день, поутру казавшийся таким чудесным, а на поверку оказавшийся таким ужасным. Когда мама заболела. Когда кончилось детство.
В очереди в химчистку его осенило!
Мы с ним часа два, наверное, парились там – и вот, жужжа, налетела откуда ни возьмись муза с логарифмической линейкой!
Что-то в рассуждениях Бережняка было. Неужто он прав? Но действительно, чего ради тогда…
Какой сошниковский вопрос вдруг выскочил. Чего ради – что?
Не о том мне сейчас надо думать.
Поддавки.
– Не буду спорить, – сказал я угрюмо. – Я ещё мелковат был, но охотно вам верю. Все говорит за это. Только что проку теперь судить да рядить о том, что не сбылось. И какое отношение…
– Как вы хорошо, уважаемый Антон Антонович, это сказали. Что проку? Есть прок, есть. Сейчас вы поймете, к чему я клоню. Пока нам важно понять, что именно благодаря столь специфической обстановке наука наша ушла, знаете, так далеко вперед, что сейчас это просто даже не оценить. Просто не оценить. Только беда-то была в том, что все эпохальные открытия оставались втуне и просто складывались в тайную копилку на случай, как пел когда-то Высоцкий, атомной войны. А когда погиб СССР, сверхсекретность сыграла злую шутку. Разворовывалось достояние двадцать первого, а то и двадцать второго века не самими учеными, а либо полуграмотными, знаете, начальниками институтских первых отделов, либо совсем неграмотными секретарями, знаете, райкомов. Ученые, правда, получили свободу разговаривать про свободу, но она им быстро опостылела, ведь им от этого не только, знаете, личных яхт и самолетов не перепало, но даже советская пайка перестала перепадать. А собственники их открытий торопливо распродавали все первым попавшимся покупателям – даже не очень понимая, что именно продают, и о цене, знаете, имея представление самое слабое. Самое слабое. И потому продавали втридешева. Только бы, знаете, успеть схватить хоть сколько-то зеленых за вот эти файлы, или эти ампулы, или эти формулы, или эти ящички… А покупатели хватали тоже впопыхах, мелкой нарезкой. И потому-то, заметьте, воспользоваться покупками… да что там воспользоваться – разобраться! – не имеют ни малейшей возможности. Ах, любезный Антон Антонович, голубчик! Что там было и утекло? Антигравитация? Механика предотвращения землетрясений и тайфунов? Системы сверхсветовой коммуникации? Создание дешевых и неотторгаемых искусственных трансплантатов? Полная расшифровка генов? Принципиально новое понимание того, как играет с нами исторический процесс? Никто не знает. Понимаете? Никто не знает! Мне вот в свое время довелось работать под началом замечательного ученого – вам его имя ничего не скажет, разумеется, а тогда он был одним из корифеев так и не состоявшейся науки, биоспектралистики так называемой…