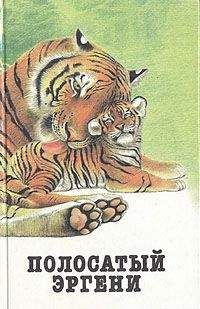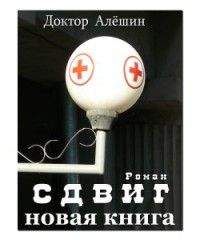Н. Тасин - Катастрофа. Том II
Несколько часов спустя директория бежала, и над Городской ратушей водружен был французский национальный флаг, — тот самый ненавистный инсургентам флаг, который развевался на общественных зданиях Парижа и всей почти остальной Францией.
Несколько труднее далась Парижу победа над Лиллем. Захвативший здесь власть Народный совет опирался на десятки тысяч хорошо вооруженных и дисциплинированных рабочих текстильной промышленности. Войска местного гарнизона тоже с самого начала восстания перешли на сторону инсургентов, которые, таким образом, располагали значительной армией.
Целый день шли на улицах Лилля бои между инсургентами и присланными из столицы войсками. Победил, разумеется, Париж.
XVII
Подземная Франция зажила серой, будничной жизнью, точно остепенившийся молодой человек, уставший от кутежей и бурных авантюр.
Шли дни за днями, тусклые, безрадостные, без утренних и вечерних зорь, ничем не отличавшиеся от ночей.
Люди приспособлялись к подземному существованию, душили в себе тоску по солнцу, небу и беспредельным лазурным далям и сами становились какими-то серыми, тусклыми, бесцветными, как если бы земля, среди которой они жили, отбрасывала на них свою тень.
Вместе с яркими красками блекли таланты, одна за другой гасли так щедро разбросанные природой среди людей искорки гения, как гаснут настоящие искры, падая на холодные снежные равнины. Казалось, что здесь, под тяжелыми бетонными сводами, среди бурых масс земли, негде развернуться заложенным в человеке силам, и не могут, за недостатком воздуха, разгореться ярким костром искры его гения. Земля все давила, все нивелировала, сглаживала индивидуальные черты.
Поэты неохотно слагали песни, а те, которые выходили из-под их пера, были серы, угрюмы и тяжелы, как нависшие над головой своды. Уже не переливались в них всеми цветами радуги солнечные лучи, лунное сияние, небесная лазурь и белоснежные облака с золотыми краями. Люди читали их с непобедимым чувством скуки и спрашивали себя, зачем их пишут. Ни в ком не будили они гордых порывов, никого не звали в заветные дали, никого не опьяняли сладкими мечтами.
Знаменитый поэт Делянкр, после долгих и тщетных усилий воскресить осаждавшие его некогда прекрасные образы и воплотить их в звучные строфы, в бессильной ярости сломал перо и стал искать забвения в вине. Растрепанный и оборванный, бродил он по улицам города, часто собирал вокруг себя толпы любопытных и пьяным, осипшим голосом, трагически бия себя в грудь, декламировал им свои старые стихи, те, которые он сочинил еще там, наверху.
Солнце, как огненный бог в колеснице,
Мчится по ясной лазури небес… —
торжественно начинал он.
Потом вдруг останавливался, мучительно морщил лоб, ударял в него кулаком, словно желая разбудить уснувшую память, и горестно, со слезами в голосе, восклицал:
— Забыл! Собственные стихи забыл! Боже мой, Боже мой! Понимаете ли вы, друзья мои, какой это ужас? Забыть собственные стихи!… Но погодите, я, быть может, еще вспомню…
Став в позу и торжественно протянув правую руку, он снова начинал:
Солнце, как огненный бог в колеснице,
Мчится по ясной лазури небес…
…по ясной лазури небес.
небес…
— Нет, не могу вспомнить! А это было так красиво, та-кия были гордые, звучные строфы… Когда я читал их там, наверху, я сам чувствовал себя лучезарным богом… А все из-за этого подземелья, этих мерзких сводов! Разве можно здесь петь о солнце, о небе? Будьте вы трижды прокляты, гнусные своды, которые скрывают от нас солнце! Я, поэт Делянкр, шлю вам свое великое, вечное проклятие!
Он яростно поднимал над головой судорожно сжатые кулаки, долго грозил им бесстрастным, серым сводам, а потом, когда пароксизм ярости проходил, разражался горькими слезами обиды и бессилия.
Народный певец Барро, тот самый, который сочинил популярную песенку о зоотаврах, всегда веселый и пенящийся, как вино Шампани, из которой он был родом, как-то потускнел, точно в нем иссяк родник веселья, смеха и звонких песен. В тавернах, которые всю жизнь были для него трибуной, эстрадой и вторым домом, он тщетно пытался занимать публику куплетами и каламбурами, которые некогда стяжали ему такую популярность. Теперь у него ничего не выходило, и публика, — та самая, которая там, наверху, покатывалась со смеха, слушая его, — смотрела на него серьезно, без тени улыбки, как если б он говорил о росте заработной платы или товарообмене. И сознавая, что он человек конченный, никому более ненужный, он в смертной тоске пил стакан за стаканом, а опьянев, скандалил и придирался к окружающим.
— Шире дорогу, Барро идет! — кричал он, гордо подняв лохматую голову, воинственно выпячивая грудь и приподымаясь на цыпочки, чтобы придать хоть немного внушительности своей обидно маленькой фигуре. — Фелисьен Барро, понимаете? Меня называли магом и волшебником, величайшие писатели и артисты приходили в грязные монмартрские кабачки послушать меня и аплодировали мне до того, что у них опухали руки… Когда я, бывало, пою свою «Мими», вся улица, весь квартал, ревел от восторга и подхватывал припев. Да-с, милостивые государи, вы можете думать все, что вам угодно, а я все же Барро, между тем как вы… скажите мне, зачем вы существуете на свете? Прежде вы коптили небо, а теперь коптите эти своды. Карлики, жалкие пигмеи, мелкие, плоские душонки, которые никогда не знавали, что такое вдохновение, гордые порывы… Я вас презираю! Слышите ли? Я, Фелисьен Барро, вас презираю до глубины души, я смотрю на вас сверху вниз как на букашек…
Бедному Барро при его низеньком росте трудновато было смотреть на людей сверху вниз, и он еще больше пыжился, еще выше поднимался на цыпочки. Кончалось тем, что хозяин кабачка брал его в охапку и выбрасывал за дверь, в которую несчастный певец потом долго и яростно бил кулаками.
Художники пробовали было по памяти писать солнце, зарю, звездное небо, облака, горы, море; но выходило не то, и они в бешенстве рвали свои полотна.
Знаменитый пейзажист Паскаль Лакруа созвал однажды в свою студию друзей. Они с грустным недоумением смотрели на стоявшие вдоль стен, на мольбертах, пейзажи: это была какая-то безобразная мазня, как если бы кистью художника водила рука пятилетнего ребенка.
— Господа! — торжественно обратился к пришедшим хозяин. — Я вас пригласил сюда на похороны великого художника Паскаля Лакруа. Не надо ни слез, ни цветов, ни надгробных речей: Лакруа сойдет в могилу скромно, без помпы и шума. Но сначала взгляните на эти картины. Не правда ли, шедевры?