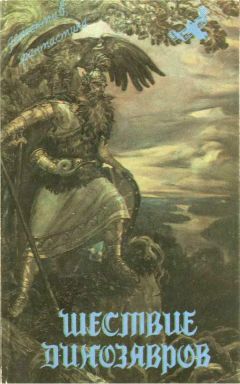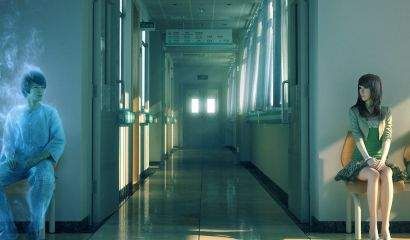Евгений Филенко - Шествие динозавров
— Ты полагаешь, что Одуйн-Донгре прав?
— Нет, я так не полагаю. Но правитель Юга хотя бы понимает, что нельзя уговорить бегемота летать, а рыбу — рычать. Одуйн-Донгре мудрее императора. Он искуснее в словах. Ему верят люди. Поэтому он обречен. Император обречен тоже. Кто-то один из них непременно убьет другого. Может быть, погибнут оба. Убийцы постоянно кружат возле них, выжидая. Вот сейчас ты, разинув рот, слушаешь Гиама, а твоему императору вспарывают живот…
— Это не так просто, — сказал я без особой уверенности. — Наивный, — фыркнул Гиам. — Окружил Солнцеликого тупоголовыми эмбонглами и думаешь, что усмирил юруйагов? Возможно, и так. Но есть еще Ночная Страна с ее Черным Воинством, о котором ты даже не подозреваешь. Есть Бюйузуо Многорукий, насылающий вургров, разрушающий умы, оседлавший самое смерть…
— Эту сказку я слышал.
— А я видел своими глазами. Вот этими! — он показал растопыренными грязными пальцами. — Тут, где мы с тобой сидим, люди могут самоуверенно почитать себя хозяевами. Но есть иные двести кругов тьмы, простирающихся до самого океана и, возможно, уходящих под его дно. Их прорыли не люди. Там один бог, один император — Бюйузуо. Не знаю, почему он медлит, почему не выходит на свет. Мальчишка Луолруйгюнр опачкался бы от одного его взгляда… «И отворятся скрытые двери, и разверзнутся потайные подвалы, и не останется дворца, дома и хижины, где бы не вскрылся ход, и всползет Древняя Смерть о ста ногах и ста руках, и пошлет впереди себя вургров, и вургр станет правителем, и направит во все концы тверди вургров править людьми, и будет так ровно сто дней, и не останется под солнцем и луной человека, в жилах которого текла бы кровь, ибо всю ее до капли выпьют вургры, и набросятся вургр на вургра, и выпьют самих себя, и пресытятся и возблюют, и вся кровь извергнется, и пресечется путь человека…» Слушай, ниллган, — сказал он, перепуганный, видать, собственными пророчествами. — Умоли императора обрушить Эйолудзугг. Или затопить. Пока не поздно, а?
— Попробую, — произнес я в раздумье.
17
…ни с того ни с сего, совершенно, надо отметить, не к месту во мне просыпается профессиональное рвение. Этакий исследовательский зуд. И я уже себе не хозяин. Пока мне означенный зуд не успокоят, ни о чем ином я и слышать не могу.
— Нунка, — требую я. — А какие они, эти зигган?
Она долго молчит. Должно быть, ей интересно ощущать, как во мне булькает и вскипает нетерпение.
— Вам это действительно нужно знать именно сейчас? — наконец спрашивает злодейка.
Это не оговорка, не жеманство. Она и в самом деле абсолютно осознанно продолжает обращаться ко мне на «вы». Даже теперь.
— Просто необходимо.
— Может быть, оставим до завтра?
— Я умру от разрыва любознательности.
— Что-то на семинарах подобное рвение прежде не отмечалось, — фыркает она.
— Я исправлюсь.
— И вообще, у вас будет спецкурс по этнографии.
— Когда он еще будет!.
— А если мне просто лень?
— Разве так бывает? И потом — не кажется ли тебе, что ты манкируешь?
— Манкируешь?. Что это значит? «Обезьянничаешь», от английского «monkey»?
— Нет, кажется, что-то французское… Дескать, отлыниваешь от обязанностей. Тебе поручено ввести меня в курс имперских дел, вот и будь любезна соответствовать.
— Ужас, как официально! — закатывает она очи. — Ну, хорошо, повинуюсь. Только учтите, сударь, что с момента моего возвращения к исполнению профессиональных обязанностей всякие вольности становятся недопустимыми.
— Ах, какие формальности! — вторю я.
Слиток раскаленного металла нехотя сползает с моей груди. Нунка блуждает по комнате в поисках пульта, который я затыркал на книжную полку, но ни за какие коврижки в том не сознаюсь. Периодически пожимает плечиками и всплескивает руками, а я на протяжении всего этого процесса с удовольствием за ней наблюдаю. Нет в Нунке клинической длинноногости наших королев красоты, как, впрочем, и мясного изобилия в кустодиевском духе. Все в ней соразмерно, ничто не в избытке, ничто не в дефиците. Упругая, теплая даже издали, на глазок, шоколадная гладь. За ней и вправду приятно наблюдать. И эгоистично при этом думать: «Вот это — мое… и это тоже…» А о том, что все это мое только на время, как бы в аренду — не думать вовсе.
Странная все-таки скотина этот русский мужик конца двадцатого века. Не задумываясь, он готов выругать «блядью» всякую женщину, чье поведение хотя бы несколько более игриво, нежели допускают домостроевские нравы, и язык его при этом не свернется в трубочку. Точно так же, без тени колебаний сам он готов окунуться в грех, стоит ему лишь слегка намекнуть на возможность такового. Но и в чужой постели, лаская чужое лоно, он совершенно искренне будет любить свою жену. И при нужде запросто сыщет миллион оправданий и доводов, чтобы отмазаться от собственной совести. Нет, насылая на людей спидовую погибель, Бог опрометчиво начал с Америки…
Наконец пульт обнаружен. Нунка бросает на меня через плечо взгляд, где поровну и недоумения и укоризны. Садится на пол и касанием коготка превращает глухую стену в экран. Я немедля покидаю свое лежбище и умащиваюсь рядом. Наши плечи соприкасаются, и я чувствую, что металл понемногу остывает.
— Вот, смотрите, — говорит Нунка.
И на экране возникают два обычных человеческих лица — мужское и женское. То есть, не вполне обычных. В них мне мерещится некая искусственность. Как в фотороботе.
— Это композитные портреты. Или обобщенные, как угодно. Они не принадлежат конкретному человеку, а представляют собой визитную карточку расы, — голос Нунки на самом деле становится суше, она перевоплощается в мастера. Несмотря на то, что продолжает сидеть нагишом на полу моей комнаты. — Но зигган — не особая, большая раса. Это контактная, промежуточная группа между европеоидной расой и экваториальной, точнее — океанической ветвью последней.
— Экваториальная раса — это негры, что ли?
— В том числе. И полинезийцы, между прочим. Чьи женщины некоторыми ценителями признаны самыми красивыми в мире. У зигган светлая кожа, изредка со специфическим золотистым оттенком. Загар тут ни при чем, хотя солнце на той широте жаркое. Встречаются альбиносы, и это отклонение расценивается как знак особого благоволения богов… Зигган прекрасно сложены, выносливы и подвижны. Иначе и быть не может в обществе, где девяносто девять процентов населения добывает хлеб насущный тяжким физическим трудом. Толстяки или астеники там попросту не выживают. Средний рост мужчины — около ста семидесяти сантиметров, по тем временам — порядочно… Скулы выдаются вперед, но не сильно. Нос крупный, прямой. Подбородочный выступ развит более обычного для океанической ветви, губы полные, но не вздутые. Волосы жесткие, густые. Видите, какая у мужчины пышная борода? Занятно, что цвет волос как правило светлый, от каштановых до таких, как у вас. И глаза преимущественно голубые, как у славян и скандинавов. Странно, не правда ли? Только с глазами у них вообще фантастика!