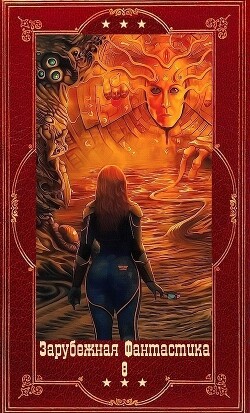Старость аксолотля - Дукай Яцек
Даг весьма нечетко высветил неопределенное выражение лица.
– Они ебанаты еще те, они в самом деле рандомизируются в нейро и в ДНК – один раз у них получается одно, в другой другое. Неделя переговоров, и я думал, что с ума сойду, – он снова толкнул локтем «Аль-асра» Гжеся. – Рядом с тобой ко мне возвращается здравый рассудок.
Под обрывом проплыла перевернутая Венеция, проплыли Лас-Вегас, Эльдорадо, Метрополис, и «Аль-аср» толкнул «Шмитта» в ответ.
Из всего репертуара физической близости – трансформер и трансформер, двое рабов харда, утопающих в океане бескрайнего одиночества – что им еще оставалось?
«Шмитт» хлопнул «Аль-асра» по спинной пластине – у карминового меха внутри аж зазвенело. «Аль-аср» врезал из полуприседа «Шмитту» молниеносным ударом в подбородок.
Они продолжали с грохотом лупить друг друга, вскочив на ноги и отступая под ударами к самой башне.
Радостные эмоты выстреливали фонтанами. На песчаной равнине дефилировали Альгамбры и Теотихуаканы. По пустыне разносился лязг уродуемого металла.
Замковцы бегали вокруг, хлопали в ладоши и пели:
– Трансформеры бьются! Трансформеры дерутся!
Они бились, дрались и крушили друг друга с размахом, достойным Первого и Последнего Рая. Даг воспроизвел из архива рев Годзиллы, Кинг Конга и Чужого, Гжесь ответил воплем Брюса Ли и завыванием корабельной противотуманной сирены.
Под кулаками мехов содрогалась Африка и срывались облака с небес. Гжесь, будто торпедой, ударил башкой в бедренные шарниры Дага; Даг схватил Гжеся поперек и грохнул роботом о камни под башней. Та накренилась, на лазурном небосклоне покосилось солнце.
– Трансформеры дерутся!
«Аль-аср» вбил кулак под грудную пластину «Шмитта» и вырвал пучок кабелей. «Шмитт» выломал из конструкции башни одну из опор – двухтонный столб из дерева, железа и бетона – и начал лупить им «Аль-асра» как дубинкой. По матернице разносился смех. Они стояли на палубах тонущих авианосцев, превращая в кашу десятки истребителей и вертолетов. Вокруг них проваливались континенты чужих планет, а они боксировали кулаками-кувалдами. Они падали во взрывающиеся сверхновые на спинах нечеловеческих мехо-богов и снова рубились с грохотом в триста децибел, а вокруг них, вытаращив глаза, объедались попкорном аксолотли.
Metal on metal, soul on soul. Кости и кровь роботов летели во все стороны. Рука, нога, обломки электронных подсистем – Гжесь наклоняется и поднимает старую руку «Шмитта-4», и она уже кажется ему почти античным артефактом, следом некоей дэникеновской цивилизации времен до человека – так исцарапали и отшлифовали эту железяку пустынные ветер и песок за прошедшие с их сентиментальной драки полтора года.
Гжесь стоит, держа в руке реликвию брата-меха, и долго не может двинуться с места, будто его заело. Что-то в нем ломается (не хард). Он заплакал бы, но у него есть только эмоты.
Госпожа Спиро сидит у костра в классической позе пьеты [141], наевшийся людак-замковец спит на ее коленях, свернувшись в позе полуэмбриона. Госпожа Спиро нежно гладит эбеновыми пальцами мягкое тельце сказочного живорожденного, тотем-лицо склоняется с дикой нежностью над беззащитным человеком. Белый белок в объятиях черного дерева. Пальцы, будто живые клавиши фортепиано, подрагивают на лбу замковца в ритме неслышимых там-тамов. Госпожа Спиро – черная богиня, госпожа Спиро – кукла дочеловеческих снов и мифов, госпожа Спиро – мать Африки.
Гжесь швыряет руку «Шмитта» в пламя. Огненная жертва поднимает фонтан искр.
Госпожа Спиро смотрит на него глазами, похожими на два горизонтальных сучка в закопченной коре.
– Какое прекрасное отчаяние!
– Правда? – Гжесю незачем эмотировать горечь, у него по умолчанию такой голос. – Мне потребовалось сто тысяч ночей, чтобы дойти до этого края.
– Тебе этого не хватает? Великих чувств, великих страданий, драм из Рая?
– Не говори мне о Рае, это не Рай.
Двадцать процентов сна, и госпожа Спиро мерцает в отблесках костра, почти расплываясь в сомнабулический призрак, нечто среднее между деревянной куклой и масайской шаманкой.
– Не Рай? А чего тебе недостает?
Гжесь заглядывает в ночь и заглядывает в себя. Как ответить на этот вопрос? Будто он триста лет задыхался под бетонной тяжестью. Он знает, что чего-то недостает, чего-то самого важного, но когда пытается вымолвить слово, озвучить мысль – выходит лишь глухая пустота.
– Ведь у меня была какая-то жизнь, помимо жизни робота. Были какие-то хобби, какие-то увлечения, странности, любовь, ненависть, желания-нежелания, у меня была личность.
– А теперь нет?
– Не знаю. Есть?
Ведь это наверняка не все. Существовала глубокая тайна-сущность человечества, и он, они ее утратили, утратили при трансформации посредством IS3 столь бесповоротно, что теперь они, трансформеры, не в состоянии даже сравнить, чтобы охватить мыслью утраченное.
Но они чувствуют, догадываются, переваривая сотни дней механически повторяющейся работы, будто они в самом деле были лишь тем, что в состоянии сделать, подвергаясь воздействию энергетических циклов, более жестоких, чем астрономические циклы темноты и света, тупо поглощая призраки искусственных развлечений и наматывая себе на ум те вымышленные жизни. Стоя часами в ступоре, будто статуи, воистину как выключенные роботы, и ничего не делая, не живя, даже не отыгрывая светских ритуалов тела, пусть даже выглядящих столь же ужасающе жалко, как совокупления сексботов. Вся их жизнь – жизнь роботов; почини то, сделай это, построй то; вся их жизнь – сон харда, но они чувствуют, чувствуют, что ЭТО НАВЕРНЯКА НЕ ВСЕ.
– Ведь у меня оно было.
– Было?
Он завелся. Голова в ночь, процессор на наивысшие обороты, охлаждение всей поверхностью меха; он отступает глубже во тьму, в африканский холод, в сон прошлого, где, распаковав из внутренней памяти игуарте безнадежно перемешанные архивы, снова и снова прогуливается по шумным аллеям парка, среди людей и животных, ссорится с чиновником у окошка конторы, купает сонного внука, трясется в лихорадке под пропотевшими одеялами, дотрагивается кончиком языка до века спящей женщины, бежит за уезжающим трамваем, дрожит в окопе под артиллерийским обстрелом, засыпает на работе с головой на клавиатуре перезагрузившегося компьютера, выталкивает из своего лона на свет плачущего новорожденного, выходит после ночной смены под весенний дождь, а Солнце взорвалось над горизонтом, и процессор окончательно перегревается, перемешивая сны, времена и линии харда.
Солнце взорвалось над горизонтом по-африкански внезапно, как всегда взрывалось над Эдемами и Ириями [142], и Гжесь машинально напряг позвоночник, чтобы шире простереть черные крылья. То был уже триста пятнадцатый виток вокруг Земли одинокого «Хоруса I», который летел по инерции, будто запущенный в астрофизическом флиппере шарик, поскольку давно уже израсходовал последние капли газа из маневренных резервуаров. Либо уравнения сцепятся, и орбита склеится с орбитой, либо «Хорус» Гжеся окончательно выйдет из игры.
Он медленно вращался. Над-под ним полудуга ослепительного блеска очертила профиль Азии и Тихого океана, после чего из-за черного диска планеты обрушилась разогнавшаяся лавина рассвета. Вырванный из холодного ничто «Хорус» внезапно обрел резкие контуры, его пересекли линии дня и ночи, а каждое крыло поделилось на позитив и негатив. По ним в каменную утробу робота сползали прожилки ледяного огня.
Сосредоточившись в остывшем мехе, Гжесь включил все системы диагностики и термостатику, оптимизировал солнечный профиль – крылья уже впитывали солнечный свет до последней капли. В зуме росла грубым полумесяцем солнечных отблесков чаша гугловского конструкта. Гжесь запустил отсчет, нацелил правую руку, числа уменьшались, кривые сближались, пока наконец не наложились друг на друга – и «Хорус» за долю секунды совершил запрограммированное движение, отцепив паруса крыльев, выстрелив из руки якорной нитью и свернувшись в эмбрион-шар.