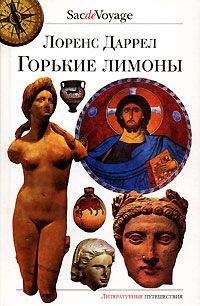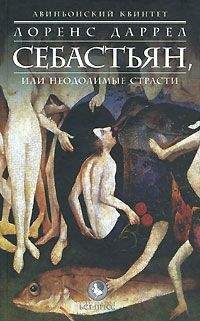Лоренс Даррелл - Бальтазар (Александрийский квартет - 2)
Не торопясь, они объехали обширную плантацию, трезво оценивая результаты приложенных усилий и обсуждая план дальнейшего наступления когда установят новые машины. Затем, некоторое время спустя, когда они достигли уединенного местечка на берегу реки, скрытого со всех сторон высокими камышами, Наруз сказал: "Погоди минуту..." - и спешился, снимая на ходу с плеча старый кожаный ягдташ. "Надо кое-что припрятать", - сказал он, улыбнувшись, и, как всегда, потупился. Нессим без всякого любопытства следил за братом: Наруз расстегнул сумку и перевернул ее так, чтобы содержимое вывалилось в воду. Но вот чего Нессим не ожидал увидеть, так это сморщенной человеческой головы с желтыми зубами, тускло блеснувшими из-под раздвинутых губ, со страшно скошенными к переносице глазами, - голова выкатилась из сумки и медленно скрылась в глубокой зеленоватой воде. "Что это, черт побери, такое?" Наруз тихо, с присвистом, рассмеялся и ответил, глядя в землю: "Абдель-Кадер - точнее, голова от Абдель-Кадера". Он встал на колени и принялся энергично полоскать ягдташ в воде, а потом одним движением вывернул его наизнанку, как выворачивают рукав, и вернулся к лошади. Нессим глубоко задумался. "Итак, тебе таки пришлось его... - сказал он. - Именно этого я и боялся".
Наруз на секунду перевел на брата взгляд своих лучистых голубых глаз и сказал серьезно: "Если бы у нас снова начались проблемы с бедуинами, на следующий год мы лишились бы тысячи деревьев. Риск был слишком велик. К тому же он собирался меня отравить".
Больше он не сказал ни слова, и в полном молчании они доехали до самой границы сходящих понемногу на нет возделанных земель - то была, так сказать, линия фронта, зона активных боевых действий - длинная неровная полоса, похожая на край рваной раны. По всей ее длине инфильтрация с орошаемых полей и подпочвенные воды пустыни нанесли с обеих сторон соль, насквозь пропитавшую почву, превратившую эти места в аллегорию мерзости запустения.
Только гигантская осока и тростниковое просо росли здесь да редкий колючий кустарник. Рыба в соленой воде не жила. В мертвом мареве ядовитых испарений, зловещая, жестокая и совершенно немая, лежала она - черта, где встретились в смертельном объятии пески и посевы. Теперь они ехали сквозь заросли тростника с выбеленными солью стеблями - мелкие кристаллы блестели на листьях. Лошади тяжело дышали, с трудом пробираясь через солончаковое болото, и гнилая вода оставляла белые пятна соли на шкуре, там, куда попадали брызги; илистые озерца были затянуты поверху коркой соли, копыта проламывали ее, с чавканьем погружались в ил, выпуская наружу тяжелые запахи и - иногда - рои кусачих мух и москитов. Но даже и здесь Наруз поглядывал вокруг с интересом, глаза его блестели - ибо он уже видел, да что там - уже засадил бесплодные эти пространства рожковым деревом - завоевал их. Однако оба они старались дышать неглубоко и совсем не разговаривали между собой, пока не оставили позади сей последний зловонный барьер и примыкавшие к нему длинные лоскуты сморщенной, похожей на кожу мумии земли. Выбравшись наконец на окраину пустыни, они немного передохнули в тени, пока Наруз шарил по карманам в поисках палочки синего мела, каким пользуются маркеры в бильярдных. Они натерли мелом указательные пальцы и осторожно мазнули себя под каждым веком, чтобы уберечь глаза от песчаного блеска, - они всегда так делали еще детьми, - и повязали головы платками на манер бедуинов.
А после: первые дуновения чистого пустынного воздуха, и обнаженность пространства, голого, как теорема, уходящего в пропитанное вековечным молчанием великое небо, и ни единого живого существа, если не считать тех, кто создан был людской фантазией, чтобы хоть как-то населить пейзажи, искони чуждые человеческим страстям, иссушающие пустотой своей мозг и душу.
Наруз гикнул, и лошади, проснувшись вдруг, исполнившись чувством свободы и бескрайнего пространства вокруг, сорвались в причудливый, рывками галоп по песчаным дюнам, плеснули по ветру гривы и бахрома на сбруе, заскрипели седла. Так они неслись минуту за минутой, и Нессим смеялся от возбуждения и радости. Как давно это было в последний раз - галоп, пустыня.
Вскоре они придержали коней и без особой спешки тронулись дальше к востоку - длинною плавной дугой через поросшую чахлым кустарником пустошь, где средь бесплодных песчаных дюн цвели цветы и на этих невзрачных, но жизнестойких образчиках пустынной флоры бражничали бабочки. Копыта цокали по усыпанному галькой дну каменистых долин, огромные иглы из желтого песчаника и острые гребни утесов из глинистого сланца складывались постепенно в давно знакомый пейзаж. Нессим захлебывался воспоминаниями о далеких, в ранней юности, ночах, проведенных под седым от звезд небом, под грохочущим на ветру промерзшим шатром (заиндевевшие веревки сверкают, как бриллианты), и глядит сверху Вега - прямо на тебя, - и пустыня раскинулась, тихая, словно пустая комната. Как так выходит, что самые сильные переживания забываются - и так надолго? Пустыня лежала вокруг, словно гигантская клавиатура: фортепиано всегда было под рукой, но крышка не открывалась годами по забывчивости, а может, просто не доходили руки. Картины одна другой великолепней вставали перед его внутренним взором, застили свет солнца, и он следовал за Нарузом слепо, уже и не глядя вокруг. А потом он вдруг увидел себя и брата со стороны, издалека, в окружении огромного пустого мира - два крошечных пятнышка, как два голубя высоко в безоблачном небе.
Они остановились и передохнули еще немного в тени гигантской одинокой скалы - пурпурный оазис тьмы, - задохнувшиеся, счастливые. "Если поднимем пустынного волка, - сказал Наруз, - я загоню его курбашом". - Он взял в руки кнут и ласково протянул его сквозь полусжатую ладонь.
Когда они снова тронулись в путь, Наруз принялся неторопливо петлять из стороны в сторону в поисках древней караванной тропы - мазраба, - которая вывела бы их на Квазир-эль-Аташ (Пристанище Тех, Кого Мучит Жажда), где люди шейха должны были ждать их до полудня. Когда-то Нессим тоже знал эти дороги как свои пять пальцев - тропы контрабандистов, по которым из века в век курсировали между Алжиром и Меккой караваны, - "щедрые пути", единственный способ переправить через пустынное безлюдье груз пряностей или переливчатые штуки шелка, перекачать целое состояние с одного конца Африки на другой, а для благочестивых - добраться до Святого Города. Внезапно он ощутил ревность к брату, по-прежнему оставшемуся с пустыней на "ты". Когда-то и он умел так. И тут же поймал себя на том, что старательно копирует каждое его движение.
Вскоре Наруз крикнул хрипло, указал куда-то вперед, и несколько минут спустя они выехали на мазраб - большую караванную тропу; извилистые, но строго параллельные тропки, местами въевшиеся глубоко в камень, тянулись от горизонта до горизонта. Младший брат и здесь поехал первым. Его синяя блуза под мышками стала фиолетовой. "Скоро уже", - крикнул он, и из-за дрожащего перламутровым маревом края неба выплыла постепенно высокая скала из красноватого базальта, из которой песок и ветер высекли за долгие тысячелетия некое подобие (так видишь иногда лицо в тихо дышащих пламенем углях) сфинкса, мучимого жаждой; под самой скалой, в густой тени, поджидали их, коротая в разговорах время, проводники к шатрам шейха - четыре высоких худых человека, словно свернутых из плотной коричневой бумаги: иссохшие хриплые голоса похрустывали сухо и почти бессмысленно для стороннего уха, и смех - словно спущенная со сворки ярость. Они подъехали - их встретили туго обтянутые кожей костлявые руки, колючий клекот едва понятного арабского; Наруз тут же перешел на диалект.