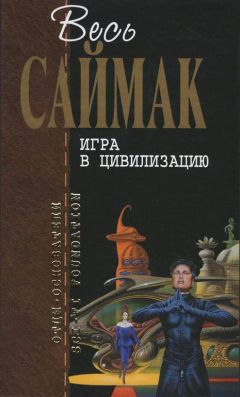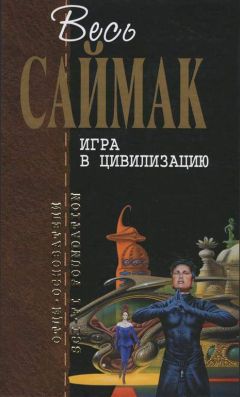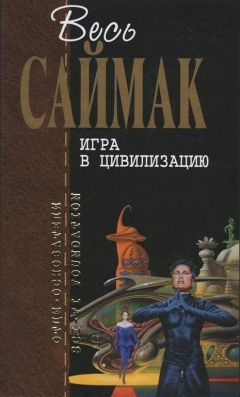Клиффорд Саймак - Игра в цивилизацию: Фантастические рассказы
— Я хочу,— говорил незнакомец в углу кабинета много лет назад,— заключить с вами сделку.
Но Харрингтон никак не мог вспомнить ни самой сделки, ни даже малейшего намека на ее условия, хотя и мог их предположить.
Он писал на протяжении тридцати лет, и за это ему хорошо платили — и не только наличными или признанием, но и кое-чем другим: большим белым домом на холме, окруженным одичавшим парком, верным дворецким из старой книжки с картинками, уистлеровской матерью, романтической горьковатой и в то же время сладостной привязанностью к могильному камню.
Но теперь дело сделано, выплаты приостановлены, и мир, существовавший понарошку, окончил свое бытие.
Выплаты приостановлены, и иллюзии, окружавшие его, развеялись. Мишура славы осыпалась с его разума — и больше он не увидит старую побитую машину новой и глянцевой. Теперь он вновь может прочесть надпись на могильном камне.
И мечта об уистлеровской матери улетучилась из его сознания, хотя и была некогда так прочно вбита туда, что сегодня вечером он на самом деле поехал в том дом, по тому самому адресу, который был впечатан в его мысли.
Харрингтон понял, что воспринимал окружающее озаренным великолепием и величием, похищенными из книг.
«Но разве такое возможно? — удивлялся он.— Разве может такая штука работать? Неужели человек в здравом уме может играть в подобную игру на протяжении целых тридцати лет?
А может, я безумен?»
Но размышлял он спокойно, и подобный вывод был маловероятен, ибо ни один безумец не мог бы писать так, как писал он, ибо он написал то, что думал, и сегодняшние слова сенатора подтвердили это.
А вот остальное было лишь претензией на настоящую жизнь, и ничем иным. Претензией на настоящую жизнь, выстроенной при помощи безличного, неведомого человека, заключившего с ним сделку в ту ночь, много лет назад.
«Хотя,— думал Харрингтон,— может, особой помощи с его стороны и не потребовалось». Человечество предрасположено к детскому восприятию мира. Лучше всего это удается детям — они полностью сживаются с придуманным миром, в котором живут понарошку. Но и многие взрослые заставляют себя поверить в то, что считают достойным веры, или во что хотят верить во имя душевного покоя.
«Наверняка,— сказал он себе,— от такой выдумки до полной веры в выдумку — один шаг».
— Мистер Харрингтон,— вернул его к действительности голос официантки,— вам что, пирог не нравится?
— Разумеется, нравится,— Он взял вилку и отломил кусочек пирога.
Итак, ложная реальность, способность изображать из себя человека, живущего в своем собственном мире, без сознательных усилий — это плата. Наверно, это даже больше, чем плата,— вероятно, это непременное условие того, что он мог писать так, как писал; это тот самый мир и та самая жизнь, в которых по всем расчетам он должен был проявить себя наилучшим образом.
И какова же цель всего этого?
Вот о цели-то он и не имел ни малейшего понятия.
Конечно, если не считать, что целью являлась сама суть его работы.
Музыка по радио прервалась, и торжественный голос сказал: «Мы прерываем нашу программу для важного сообщения. “Ассошиэйтед Пресс” сообщает из Белого дома, что государственным секретарем объявлен сенатор Джонсон Энрайт. А теперь мы продолжаем трансляцию музыки...»
Харрингтон замер, не донеся вилку до рта.
— Клеймо судьбы,— процитировал он,— может отметить одного-единственного человека!
— Что вы сказали, мистер Харрингтон?
— Ничего. Ничего, мисс. Просто так, вспомнилось. Так, пустяки.
Хотя, конечно, это был отнюдь не пустяк.
Он подумал о том, сколько еще людей на свете могли прочесть вполне определенные строки из его книг? Сколько еще жизней изменилось в нужную сторону после того, как люди прочли какую-нибудь фразу в его книге?
А не без помощи ли он написал именно эти фразы? В самом ли деле он так талантлив, что излагал собственные, тяготившие его мысли? Может, ему помогали писать — точно так же, как помогали жить понарошку? Не в том ли причина, что теперь он ощутил себя исписавшимся?
Но, как бы то ни было, теперь все позади. Он сделал свое дело, и теперь ему дали под зад коленкой, и сделали это с предельной эффективностью и тщательностью, как того и следовало ожидать,— вся эта тряхомундия заваривалась в четкой обратной последовательности, начавшись сегодня утром с журналиста. И в результате на табурет взгромоздился самый заурядный человечишко, и теперь он ест вишневый пирог.
А сколько же еще заурядных людишек и на протяжении скольких веков сидели так же, как и он — освобожденные от жизни во сне,— и столь же безуспешно пытались угадать, что ждет их в будущем? Сколько еще других даже теперь продолжали жить понарошку, как он прожил тридцать лет, до этого самого дня?
Потому что нелепо полагать, понял он, что он такой один; нелепо и бессмысленно заводить жизнь понарошку ради одно-го-единственного человека.
Сколько же эксцентричных гениев на поверку оказывались вовсе не гениями и даже не эксцентричными людьми — до той самой поры, пока не встречали безличного человека в сумрачном кабинете и не выслушивали его предложений?
Предположим — только предположим,— что целью этих тридцати лет было то, чтобы сенатор Джонсон Энрайт не оставил служение на благо общества и теперь смог возглавить государственный департамент? Зачем и кому было нужно, чтобы определенный пост занял конкретный человек? И настолько ли это важно, чтобы оправдать использование человеческой жизни ради получения иной развязки?
«Ключ к разгадке таится где-то здесь,— подумал Харрингтон.— Где-то в путаном клубке этих тридцати лет таится ниточка, которая сумеет вывести к замешанным сюда человеку, вещи или организации — кто бы это ни был».
Он почувствовал, как в нем смутно шевельнулась ярость — бесформенная, бессмысленная, почти безнадежная ярость, не направленная ни на кого и ни на что в частности.
В забегаловку вошел человек и взгромоздился на табурет, стоявший через один от Харрингтона.
— Привет, Глэдис,— гаркнул он, затем заметил Харрингтона, хлопнул его по спине и рявкнул: — Привет, приятель! Твое имя в газете.
— Угомонись, Джо,— сказала Глэдис,— Чего тебе?
— Тащи-ка кус яблочного пирога да чашку кофею.
Мужчина был крупного сложения, руки его поросли густыми волосами, а на рубашку был нацеплен значок водителя грузовика.
— Вы что-то сказали насчет моего имени в газете.
Джо прихлопнул к стойке сложенную газету.
— Прям на первой странице. Статья и твой портрет,— Он указал замасленным пальцем, рыкнул: — Свеженькая, прям с типографии,— и расхохотался.