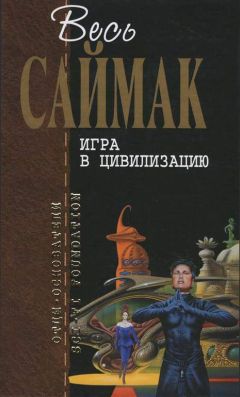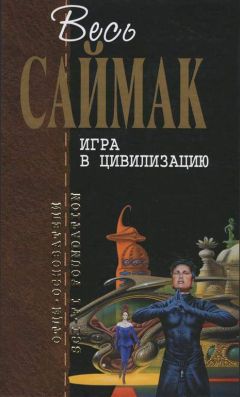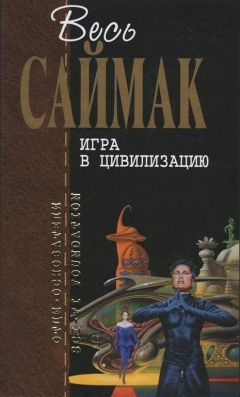Клиффорд Саймак - Игра в цивилизацию: Фантастические рассказы
Вдруг на страницу легла чья-то рука и помешала ему продолжить чтение. Харрингтон быстро взглянул вверх — это была рука официантки; ее глаза блестели, будто она вот-вот расплачется.
— Мистер Харрингтон,— попросила она,— пожалуйста, мистер Харрингтон, не читайте этого, пожалуйста, сэр.
— Но, мисс...
— Я говорила Гарри, что не надо класть этот журнал. Я говорила, что его надо спрятать. Но он ответил, что вы приходите только по субботам.
— Вы хотите сказать, что я бывал тут и прежде?
— Почти каждую субботу,— удивленно ответила она.— Каждую субботу, на протяжении многих лет. Вы любите вишневый пирог. Вы всегда берете кусок вишневого пирога.
— Ну да, конечно.
Но на самом деле он даже приблизительно не помнил этого заведения. «Хотя,— думал он,— бог знает, может, я все это время воображал здесь что-то иное, какой-нибудь вызолоченный ресторан для знаменитостей. Но ведь невозможно пуститься на такую невероятную выдумку. Пусть ненадолго это и было бы возможно, но не тридцать же лет! Ни один человек не способен на такое — если кто-то ему не поможет».
— Ну да, я и забыл,— сказал он официантке,— Что-то я нынче не в себе. В самом деле, я бы не отказался от кусочка вишневого пирога.
— Сейчас будет.
Она сняла пирог с полки, отрезала ломоть, положила его на тарелку, поставила ее перед Харрингтоном и рядом опустила вилку.
— Простите, мистер Харрингтон. Мне жаль, что я не спрятала журнал. Не обращайте на него внимания, на этом свете вообще нет ничего достойного вашего внимания — нет таких поступков или слов, которые могли бы вас касаться. Все мы очень вами гордимся.— Она наклонилась через стойку к Харрингтону,— Не обращайте внимания. Вы — слишком великий человек, чтобы обращать на это внимание.
— Да я и не придаю этому значения.
И это была истинная правда: его чувства слишком притупились, чтобы придавать значение хоть чему-нибудь. В нем не осталось ничего, кроме бескрайнего удивления, так что ни для каких других чувств места уже не было.
— Я хочу,— говорил незнакомец в углу кабинета много лет назад,— заключить с вами сделку.
Но Харрингтон никак не мог вспомнить ни самой сделки, ни даже малейшего намека на ее условия, хотя и мог их предположить.
Он писал на протяжении тридцати лет, и за это ему хорошо платили — и не только наличными или признанием, но и кое-чем другим: большим белым домом на холме, окруженным одичавшим парком, верным дворецким из старой книжки с картинками, уистлеровской матерью, романтической горьковатой и в то же время сладостной привязанностью к могильному камню.
Но теперь дело сделано, выплаты приостановлены, и мир, существовавший понарошку, окончил свое бытие.
Выплаты приостановлены, и иллюзии, окружавшие его, развеялись. Мишура славы осыпалась с его разума — и больше он не увидит старую побитую машину новой и глянцевой. Теперь он вновь может прочесть надпись на могильном камне.
И мечта об уистлеровской матери улетучилась из его сознания, хотя и была некогда так прочно вбита туда, что сегодня вечером он на самом деле поехал в том дом, по тому самому адресу, который был впечатан в его мысли.
Харрингтон понял, что воспринимал окружающее озаренным великолепием и величием, похищенными из книг.
«Но разве такое возможно? — удивлялся он.— Разве может такая штука работать? Неужели человек в здравом уме может играть в подобную игру на протяжении целых тридцати лет?
А может, я безумен?»
Но размышлял он спокойно, и подобный вывод был маловероятен, ибо ни один безумец не мог бы писать так, как писал он, ибо он написал то, что думал, и сегодняшние слова сенатора подтвердили это.
А вот остальное было лишь претензией на настоящую жизнь, и ничем иным. Претензией на настоящую жизнь, выстроенной при помощи безличного, неведомого человека, заключившего с ним сделку в ту ночь, много лет назад.
«Хотя,— думал Харрингтон,— может, особой помощи с его стороны и не потребовалось». Человечество предрасположено к детскому восприятию мира. Лучше всего это удается детям — они полностью сживаются с придуманным миром, в котором живут понарошку. Но и многие взрослые заставляют себя поверить в то, что считают достойным веры, или во что хотят верить во имя душевного покоя.
«Наверняка,— сказал он себе,— от такой выдумки до полной веры в выдумку — один шаг».
— Мистер Харрингтон,— вернул его к действительности голос официантки,— вам что, пирог не нравится?
— Разумеется, нравится,— Он взял вилку и отломил кусочек пирога.
Итак, ложная реальность, способность изображать из себя человека, живущего в своем собственном мире, без сознательных усилий — это плата. Наверно, это даже больше, чем плата,— вероятно, это непременное условие того, что он мог писать так, как писал; это тот самый мир и та самая жизнь, в которых по всем расчетам он должен был проявить себя наилучшим образом.
И какова же цель всего этого?
Вот о цели-то он и не имел ни малейшего понятия.
Конечно, если не считать, что целью являлась сама суть его работы.
Музыка по радио прервалась, и торжественный голос сказал: «Мы прерываем нашу программу для важного сообщения. “Ассошиэйтед Пресс” сообщает из Белого дома, что государственным секретарем объявлен сенатор Джонсон Энрайт. А теперь мы продолжаем трансляцию музыки...»
Харрингтон замер, не донеся вилку до рта.
— Клеймо судьбы,— процитировал он,— может отметить одного-единственного человека!
— Что вы сказали, мистер Харрингтон?
— Ничего. Ничего, мисс. Просто так, вспомнилось. Так, пустяки.
Хотя, конечно, это был отнюдь не пустяк.
Он подумал о том, сколько еще людей на свете могли прочесть вполне определенные строки из его книг? Сколько еще жизней изменилось в нужную сторону после того, как люди прочли какую-нибудь фразу в его книге?
А не без помощи ли он написал именно эти фразы? В самом ли деле он так талантлив, что излагал собственные, тяготившие его мысли? Может, ему помогали писать — точно так же, как помогали жить понарошку? Не в том ли причина, что теперь он ощутил себя исписавшимся?
Но, как бы то ни было, теперь все позади. Он сделал свое дело, и теперь ему дали под зад коленкой, и сделали это с предельной эффективностью и тщательностью, как того и следовало ожидать,— вся эта тряхомундия заваривалась в четкой обратной последовательности, начавшись сегодня утром с журналиста. И в результате на табурет взгромоздился самый заурядный человечишко, и теперь он ест вишневый пирог.
А сколько же еще заурядных людишек и на протяжении скольких веков сидели так же, как и он — освобожденные от жизни во сне,— и столь же безуспешно пытались угадать, что ждет их в будущем? Сколько еще других даже теперь продолжали жить понарошку, как он прожил тридцать лет, до этого самого дня?