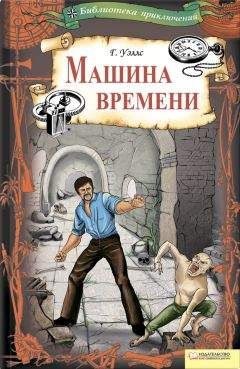Герберт Уэллс - Антология мировой фантастики. Том 2. Машина времени
— Ты всерьез? Не может быть. Ведь все уверены, что Пьер в полном восторге. — Гектор замолчал. И вдруг побледнел от внезапной догадки: Слушай, а если… А что, если он вообще не уверен, что мы дадим ему лекарство?
— А я тебе что говорю.
— Ой-ой-ой! У Кубилая ведь еще десяток сцен в программе. Надо срочно кончать все это. — Гектор схватил Ину за руку и, грубо нарушая торжественное течение высокого Совета, полез по рядам.
Между тем два седоусых унтер-офицера установили на поставце ящик красного дерева с большой серебряной трубой. Подле ящика тотчас возник вертлявый субъект в табачном сюртуке. Поклонившись в сторону печки, субъект утвердил сверху ящика черный диск и покрутил торчащую сбоку ручку. Чарующая, чуть угловатая музыка вошла в избу сразу со всех сторон.
— Симфоническая поэма Людмилы Кнут, в девичестве Люс Мерсье, торжественным фальцетом объявил владелец табачного сюртука, когда музыка умолкла.
— Алоизий Макушка собственной персоной, — прошептал Николай Иванович на ухо Пьеру. — Главный историк режиссерского консулата.
— Мысль о том, что решение наше надлежит выводить из естественного течения истории, — заговорил Макушка нормальным голосом, — подвигла меня на исследование некоторых обстоятельств, приведших тому триста лет к появлению хронолетов Владимира Каневича. Избегая частностей, могущих утомить высокое собрание, сообщаю главное следствие произведенной экзаменации, состоящее в том, что поименованный Владимир Каневич приходится по материнской линии правнуком Людмилы Кнут, в девичестве, как уже указывалось, Люс Мерсье.
В это время Пьер заметил, как Гектор что-то горячо втолковывает Кубилаю, оторопело смотрящему то на Гектора, то на него, Пьера.
Выдержав паузу, чтобы позволить всем оценить важность сказанного, Макушка продолжал:
— Дочь присутствующего здесь Пьера Мерсье есть необходимое звено в цепи событий, приведших, во-первых, к появлению у нас человека из далекого прошлого, поскольку таковое вызвано ее тяжелым недугом, во-вторых, к созданию машины времени, ставшей тривиальным предметом материальной культуры нашей эпохи. Цепь эта разорвана сейчас, и мы держим в руках ее части, раздумывая, соединить их или оставить эту цепь разъятой.
Я веду вас вдоль этой цепи, милостивые государи: в первой половине трудного века, известного невиданными бурями в жизни общества, потрясениями умов и государств, родился и погиб в зените дарования Василий Дятлов. Вот первое звено. Через тридцать без малого лет его друг, стоящий перед вами, с двумя помощниками сделал первый, несовершенный по нашим меркам, аппарат, воплотивший идею Дятлова. Аппарат этот перенес своего создателя к нам. Это — второе звено. Здесь цепь обрывается. Ибо третье звено — Люс Мерсье — умирает в своем двадцатом веке.
Макушка снова прервался. Кубилай с Гектором и Иной пробрались к сидящему за печкой старику.
— Если Люс Мерсье останется жива, — продолжал историк, — то через много лет выйдет замуж за внука погибшей вместе с ее дедом Сарры Кнут, дочери русского композитора Александра Скрябина. Она сама станет известным музыкантом, а ее правнук Владимир Каневич создаст аппарат, способный вернуть Пьера Мерсье к его дочери, а дочь — к жизни. Я кончил.
В наступившей тишине Пьер услышал тихий скрип за печкой. Грузная фигура старика распрямилась, он отнял руку от лица, извлек из шлица мундирного сюртука гигантский платок и отер лоб, Потом заговорил размеренно и внятно.
— Благодарю всех, господа. Благодарю вас особенно. — Он слегка поклонился Пьеру. — Как только что было отмечено, аппарат Каневича — это живая часть нашей культуры. Мы без нее — не мы. Раз был в истории Владимир Каневич, значит, история уже распорядилась за нас. Мы не делаем благодеяния, мы спасаем друг друга. Спасая прошлое, мы спасаем себя. Отказать Пьеру Мерсье — значит взорвать наше собственное существование. Человечество едино не только в пространстве, но и во времени. («Боже мой, — сверкнуло в уме Пьера, — он буквально повторяет Базиля»). Однако, что это я? Пространство, время… А душа-то человеческая? К ней, к душе продираться надо. И пусть бездна лет, пусть неразличимы вдали их лица. Можем ли мы смотреть на них в перевернутую подзорную трубу с холодным, жестоким сочувствием, равноценным презрению? Нет, господа! Прав, навсегда прав Федор Михайлович. Не на муках и страданиях строим храм. Быть в силах и не помочь младенцу? Да можно ли помыслить такое! Мне остается только в согласии с историей и ролью в этой пиесе сказать: «Господа! Властию, данной мне отечеством, приказываю…»
Синеющее окно вспыхнуло румянцем. В избу вошел темнолицый пожилой человек в длинной белой рубахе. Стало тихо.
— Пьер Мерсье, человек из прошлого, здравствуй!
Стен не было. Было бескрайнее поле. И тысячи лиц, лишенных грима. Человек протягивал Пьеру руки:
— Не сердись на наших детей, Пьер Мерсье. Это удача, что ты попал к ним. Они показали тебе нашу Землю. Они полюбили тебя.
— Дети? — пробормотал Пьер. — Вы сказали — дети?
— Да, Пьер. Это их дом, их школа. Они кажутся тебе взрослыми, но вглядись в них сейчас, вглядись внимательно.
— Боже мой, дети! — Пьер переводил взгляд с кудрявого, расплывшегося в улыбке Гектора на вдруг застеснявшуюся Алисию. Маленький Кукс пригладил вихры и смотрел на Пьера серьезно и напряженно, как отличник на доску с текстом трудной задачи. Кубилай лучился любовью и нежностью, а Турлумпий, щекастый Турлумпий пялил свои пуговицы так же, как на поляне при их первой встрече.
— Уже много лет, как Земля отдана детям, — говорил старик. — Сначала с ними жили педагоги и воспитатели. Но потом необходимость в этом исчезла. Взрослые стали даже мешать свободному развитию детей, их творчеству. Выяснилось, что лучшей формой такого развития является игра. Игра для нас — путь к знанию, утверждение личности, постижение живой истории. В нашем мире нет зла, рожденного темными движениями человеческой души, и мы оказались бы бессильными перед космосом, не постигни мы опыта борьбы прошлого. Но закалка против зла — не главная цель игры. История человечества, и твоего века тоже, Пьер, учит не только борьбе, но и состраданию. И, отдаваясь игре до конца, наши дети постигают главную науку — науку добра. Дети встретили тебя, они же отправят тебя домой. Они вылечат твою Люс.
— И все это они сделают сами? Дети?
— Не совсем. Мы поможем им. Хотя главное они уже сделали. Мы не сразу узнали о твоем прибытии, и на плечи детей легла эта задача — понять, что они встретились с человеком из далекого прошлого. Мне приходилось заниматься психологией людей вашего времени, и я знаю, как нелегко перешагнуть лежащую между нами пропасть. Твой приезд стал экзаменом для их умов и для их сердец. Мне кажется, они выдержали экзамен. Правда, тебе пришлось немало испытать, но это не вина детей, а скорее их беда — слишком уж широка оказалась эта пропасть. И все-таки они приняли правильное решение.