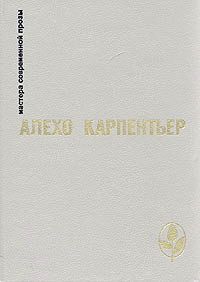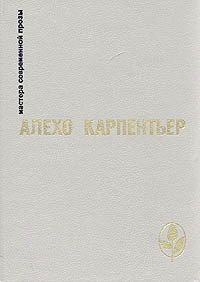Марианна Алферова - Золотая гора
Генрих сунул стофиковую бумажку красномаечнику и устремился в Клетки.
Меж развалин копошились крысята. То есть на самом деле это были дети, но своей запущенностью и грязью они вызывали жалость и отвращение до тошноты. Едва приметив бизера, малышня толпой кинулась к нему, каждый что-то выкрикивал и лез вперед, норовя вцепиться в одежду. Генрих сначала не понял, что им нужно, потом почувствовал, что его черный плащ с голубой подкладкой рвут из рук. Он старался удержать его, но напрасно. Ткань необъяснимо выскользнула из пальцев, и малявки поволокли плащ по земле, ругаясь и награждая друг друга подзатыльниками. Генрих сначала разозлился и хотел кинуться в погоню, но потом махнул рукой и рассмеялся. Наверное, со стороны эта сцена выглядела очень забавно.
Генрих попытался пробиться к Трашбогу, но местные оттеснили его: все лезли целовать ноги и сандалии учителя, многие ложились поперек дороги, чтобы Трашбог наступил на них. И Трашбог наступал. Генрих и сам споткнулся о человека: тот лежал возле бака с отбросами, совершенно голый, до черноты обжаренный солнцем, и руки его конвульсивно дергались. Генрих отшатнулся, и тут же увидел второго — скрюченного, раздетого и неподвижного.
— Кто это? — спросил он у девочки в коротеньком грязном платьице.
— Жмых, — девочка сосредоточенно ковыряла в носу и подозрительно разглядывала бизера.
— Кто? — переспросил бизер, наклонившись к маленькой обитательнице Клеток.
"Жмых. Таким стану я, оставшийся вне тебя", — объяснил тот, второй, поселившийся в мозгу и не желавший оставлять Генриха в покое.
— Жмых, — повторила девочка и, протянув костлявую лапку, сорвала с шеи Генриха серебряную цепочку, сунула в кармашек и неторопливо направилась к черному пролому в стене, служившему дверью.
Тем временем Трашбог поднялся на груду бетонных плит и поднял руку. Восторженный шепот пронесся по толпе и смолк.
— Ждать осталось недолго! — возвысил голос Трашбог. — Скоро наступит Великий день, когда огороды воспрянут! Наши души больны и изъедены пороками, наши дети, едва начиная ходить, тут же предаются пороку, и нет спасения от всепроникающего яда. Но отец наш нашел спасение! Зачем цепляться за то, что испорчено непоправимо?! Зачем хранить то, что не может воскреснуть?! И мы отдали наши испорченные души бизерам, тем, чья жизнь сладка и бессмысленна. Главное наше сокровище — наша земля — осталась у нас. В ней похоронены все силы и все таланты сотен поколений наших великих предков, в ней энергия, которой хватит на миллиарды, на десятки миллиардов людей! Мы впитаем в себя соки земли и воскреснем! Мы обретем новые, чистые души. Мы воскреснем не призрачно, как обещано в прежних религиях, на несуществующих небесах, а здесь, на земле обретем новую жизнь! И тысячи прекрасных людей, совершенных, как боги, начнут свое шествие по земле, посрамляя ничтожество бизеров!
— Да, да, мы воскреснем, — прошептал худосочный бледный человек в балахоне до пят и улыбнулся бескровными губами. — Ты в это веришь? оборотился он к Генриху.
— "В земле и небе наших огородов есть тайны, друг мой, что не снятся старшим и младшим огородникам не снятся", — отвечал бизер совершенно серьезно.
— Извини, — огородник на всякий случай отстранился.
— Час очищения настал, дети мои! — завопил Тращбог. — Я отсылаю вас в сокровищницу! Я отсылаю вас к отцу!
И толпа оглущающе завопила в ответ:
— Благословения! Благословения!
Мужчины и женщины спешно раздевались и падали на колени лицом в землю. Трашбог вытащил из складок хитона баллончик с аэрозолью и принялся опрыскивать благословляемых. В воздухе, перебивая застарелую вонь, разнесся одуряюще резкий запах.
— Вы вновь обретете силы, дети мои, — говорил Трашбог, прыская во все стороны аэрозалью.
— Мы сделались жмыхами, — шептала старуха, становясь на колени подле Генриха. — Но боженька нам вернет жизнь, боженька нас спасет…
Благословленные уныло, на одной ноте затянули песню:
"Мы отринем испорченные гнилые души,
Мы созреем, и в нас прорастут
Сохраненные землею таланты и силы
Наших дедов и наших отцов.
И воскреснет новая плоть,
Которая воистину есть дух."
— Мистер Одд! — окликнул кто-то Генриха.
Бизер оглянулся. Среди людей, торопящихся раздеться и получить благословение, он увидел Холиншеда. Тот был в знакомой майке с надписью "Love" и широченных шортах.
— Мистер Одд, как я рад! — бормотал Холиншед, пробираясь к Генриху. Вот уж не ожидал вас здесь встретить! Но рад! Рад! Ведь я хотел у вас там остаться. Но не вышло. Уж коли душу здесь продал, там не накушаешься.
— Почему вернулся? С женой не поладил?
— Ах, нет, нет! Супруга у меня женщина достойная. С ней, конечно, тяжело. Всякие правила дурацкие: то не делай, этого нельзя. Но дело даже не в этом. А вернулся потому, что срок мой пришел. Чувствовать стал созреваю. В вашу землю для воскрешения не ляжешь. Скудная у вас земля. У вас ложиться — только помирать. Здесь должны меня прикопать, на родных огородах, здесь я воскресну! — И он торопливо принялся стаскивать майку.
Мальчик лет десяти бухнулся на колени рядом со старухой, вытащил из кармана самодельный, вырезанный из картона складень, развернул и угнездил в бетонных обломках. Внутри каждой половины помещалась новенькая, не оскверненная прикосновением пальцев иконка с лицом Трашбога. Обметанными болячками губами мальчик бормотал молитвы и целовал складень.
А благословленные тесною толпой, нагие и счастливые, шли мимо. Первые уже выходили из Клеток через каменную арку. И голоса их, безустально повторявшие несколько строк, набирали силу. И Генрих… Нет, не Генрих Одд перворожденный, а тот, второй, проросший сквозь его разум как мощный сорняк (или как невиданное древо) вдруг потянулся к идущим, и великая любовь переполнила его. Он увидел не жалкие тела, а несбывшиеся жизни уходящих, их угасшую любовь, их убитую способность создавать, все не построенные ими дома, невыращенные деревья, ненаписанные книги, нерожденных детей, неспетые песни. Все это ореолом окружило толпу, и Генриху невыносимо захотелось быть среди идущих, потому что он понял: все еще может сбыться.
Он спешно сбросил свой черный костюм и упал на колени. Струя аэрозоля ударила ему в лицо. На секунду он оглох и ослеп, а потом почувствовал внезапную легкость во всем теле. Он поднялся и пошел. Рядом с Генрихом очутилась девочка лет пятнадцати с худыми острыми плечами и едва обозначившейся грудью. Светлые волосы на висках торчали ежиком, отрастая после посещения мены, зато сзади длинные пряди спускались почти до талии, ветер трепал их, и они плескали Генриху в лицо. Он положил руку девушке на плечо. Рядом с ним шла Золушка, так и не ставшая принцессой. Как тысячи других до нее.