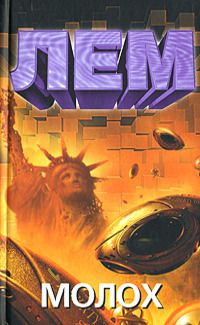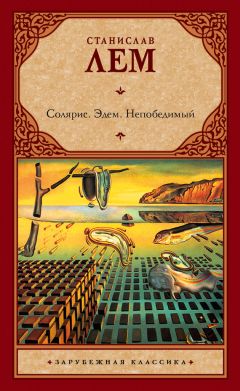Станислав Лем - Формула Лимфатера
— Пока ни у кого, — отвечал я. — Эти теоретические исследования… Это я сам, профессор… Но я намереваюсь пойти к Ван Галису, знаете, он…
— Знаю. Построил машину, которая учится, за которую должен получить нобелевскую премию и, вероятно, получит ее. Занимательный вы человек, Лимфатер. Что, вы думаете, сделает Ван Галис? Сломает машину, над которой сидел десять лет и из ее обломков соорудит вам памятник?
— У Ван Галиса голова, каких мало, — отвечал я. — Если он не поймет величия этого дела, то кто же?..
— Вы ребенок, Лимфатер. Давно вы работаете на кафедре?
— Третий год.
— Ну, вот видите. Третий год, а не замечаете, что это джунгли и что там действует закон джунглей? У Ван Галиса есть своя теория и есть машина, которая эту теорию подтверждает. Вы придете и объясните ему, что он потратил десять лет на глупости, что эта дорога никуда не ведет, что таким образом можно конструировать самое большее электронных кретинов — так вы говорите, а?
— Да.
— Вот именно. Так чего же вы ожидаете?
— В третьем томе своей монографии вы сами написали, профессор, что существуют лишь два вида поведения муравьев: унаследованное и заученное, — сказал я, — но сегодня я услышал от вас нечто иное. Значит, вы переменили мнение. Ван Галис может тоже…
— Нет, — ответил он. — Нет, Лимфатер. Но вы неисправимы. Я вижу это. Что-нибудь препятствует вашей работе? Женщины? Деньги? Мысли о карьере?
Я покачал головой.
— Ага. Вас ничто не интересует, кроме этого вашего дела? Так?
— Да.
— Ну так идите уж, Лимфатер. И прошу вас сообщить мне, что получилось с Ван Галисом. Лучше всего позвоните.
Я поблагодарил его, как умел, и ушел. Я был невероятно счастлив. О, этот Акантис Рубра Виллинсониана! Я никогда в жизни не видел его, не знал, как он выглядит, но мое сердце пело ему благодарственные гимны. Вернувшись домой, я как сумасшедший бросился к своим записям. Этот огонь здесь, в груди, этот мучительный огонь счастья, когда тебе двадцать семь лет и ты уверен, что находишься на правильном пути… Уже за рубежом известного, исследованного, на территории, куда не вторгалась еще ни человеческая мысль, ни даже предчувствие, — нет, все невозможно описать… Я работал так, что не замечал ни света, ни тьмы за окнами: не знал, ночь сейчас или день; ящик моего стола был набит кусками сахара, мне приносили кофе целыми термосами, я грыз сахар, не отводя глаз от текста, и читал, отмечал, писал; засыпал, положив голову на стол, открывал глаза и сразу продолжал ход рассуждений с того места, на котором остановился, и все время было так, словно я летел куда-то — к своей цели, с необычайной скоростью… Я был крепок, как ремень, знаете ли, если мне удавалось держаться так целые месяцы, — как ремень…
Три недели я работал вообще без перерыва. Были каникулы, и я мог располагать временем, как хотел. И скажу вам: я это время использовал полностью. Две груды книг, которые приносили по составленному мной списку, лежали одна слева, другая справа, — прочитанные, и те, что ждали своей очереди.
Мои рассуждения выглядели так: априорное знание? Нет. Без помощи органов чувств? Но каким же образом? Nihil еst in intellectu…[9] Вы ведь знаете. Но, с другой стороны, эти муравьи… в чем дело, черт побери? Может, их нервная система способна мгновенно или за несколько секунд, — что практически одно и то же, — создать модель новой внешней ситуации и приспособиться к ней? Ясно я выражаюсь? Не уверен в этом. Мозг наш всегда конструирует схемы событий; законы природы, которые мы открываем, это ведь тоже такие схемы; а если кто-либо думает о том, кого любит, кому завидует, кого ненавидит, то, по сути, это тоже схема, разница лишь в степени абстрагирования, обобщения. Но прежде всего мы должны узнать факты, то есть увидеть, услышать — каким же образом, без посредства органов чувств?!
Было похоже, что маленький муравей может это делать. Хорошо, думал я, если так, то почему же этого не умеем мы, люди? Эволюция испробовала миллионы решений и не применила лишь одного, наиболее совершенного. Как это случилось?
И тогда я засел за работу, чтобы разобраться — как так случилось. Я подумал: это должно быть нечто такое… конструкция… Нервная система, конечно… такого типа, такого вида, что эволюция никоим образом не могла его создать.
Твердый был орешек. Я должен был выдумывать то, чего не смогла сделать эволюция. Вы не догадываетесь, что именно? Но ведь она не создала очень много вещей, которые создал человек. Вот, например, колесо. Ни одно животное не передвигается на колесах. Да, я знаю, что это звучит смешно, однако можно задуматься и над этим. Почему она не создала колеса? Это просто. Это уж действительно просто. Эволюция не может создавать органов, которые совершенно бесполезны в зародыше. Крыло, прежде чем стать опорой для полета, было конечностью, лапой, плавником. Оно преобразовывалось и некоторое время служило двум целям вместе. Потом полностью специализировалось в новом направлении. То же самое — с каждым органом. А колесо не может возникнуть в зачаточном состоянии — оно или есть, или его нет. Даже самое маленькое колесо — все-таки уже колесо; оно должно иметь ось, спицы, обод — ничего промежуточного не существует. Вот почему в этом пункте возникло эволюционное молчание, цезура.
Ну, а нервная система? Я подумал так: должно быть нечто аналогичное — конечно, аналогию следует понимать широко колесу. Нечто такое, что могло возникнуть лишь скачком. Сразу. По принципу: или все или ничего.
Но существовали муравьи. Какой-то зародыш этого у них был — нечто, некая частица таких возможностей. Что это могло быть? Я стал изучать схему их нервной системы, но она выглядела так же, как и у всех муравьев. Никакой разницы. Значит, на другом уровне, подумал я. Может, на биохимическом? Меня это не очень устраивало, однако я искал. И нашел. У Виллинсона. Он был весьма добросовестный мирмеколог. Брюшные узлы Акантис содержали одну любопытную химическую субстанцию, какой нельзя обнаружить у других муравьев, вообще ни в каких организмах животных или растительных; акантоидин — так он ее назвал. Это — соединение белка с нуклеиновыми кислотами, и есть там еще одна молекула, которую до конца не раскусили, — была известна лишь ее общая формула, что не представляло никакой ценности. Ничего я не узнал и бросил. Если б я построил модель, электронную модель, которая обнаруживала бы точно такие же способности, как муравей, это наделало бы много шуму, но в конце концов имело бы лишь значение курьеза; и я сказал себе: нет. Если б Акантис обладал такой способностью — в зародышевой или зачаточной форме, то она развилась бы и положила начало нервной системе истинно совершенной, но он остановился в развитии сотни миллионов лет назад. Значит его тайна — лишь жалкий остаток, случайность, биологически бесполезная и лишь с виду многообещающая, в противном случае эволюция не презрела бы ее! Значит, мне она ни к чему. Наоборот, если мне удастся отгадать, как должен быть устроен мой неизвестный дьявольский мозг, этот мой apparatus universalis Lymphateri,[10] эта machina omnipotens,[11] эта ens spontanea,[12] тогда наверняка, должно быть, мимоходом, словно нехотя, я узнаю, что случилось с муравьем. Но не иначе. И я поставил крест на моем маленьком красном проводнике во мраке неизвестности.