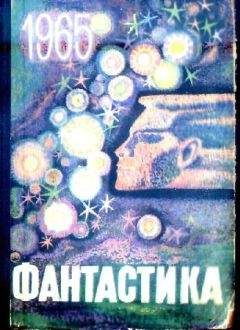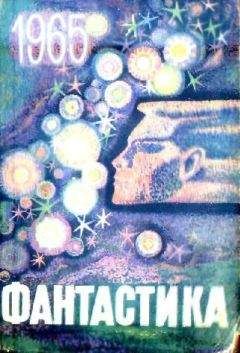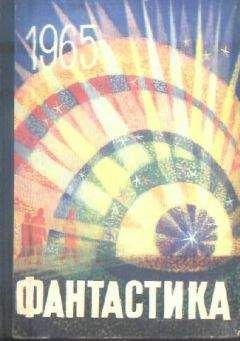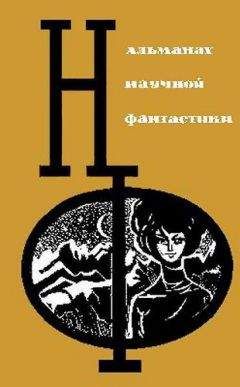Сборник - Фантастика, 1965 год Выпуск 2
Любовь… В спорах с Робером - а мы часто спорили за последний месяц, когда Робер вернулся из Америки, - я всегда утверждал, что это и есть самая прочная и надежная защита, что разум не может спасти мир, разум сейчас поставил мир перед угрозой гибели и не в силах отвести эту угрозу. Только любовь, дружба, извечные, простые чувства, которые естественно и крепко соединяют людей и дают им силу жить, - только они могут противостоять гибели и хаосу.
– Всеобщая дружба? Всеобщая любовь? - сардонически улыбаясь, спрашивал Робер. - Оно бы, может, и неплохо, но ведь ты не об этом думаешь. Ты просто маскируешь словами свое дезертирство с поля боя. Пускай, мол, человечество устраивается, как знает, а мне - лишь бы семья хорошая была. Поразительно, как ты с твоим талантом и с твоей душой после всего, что пережито нами, мог скатиться в мещанское болото, стать шкурником, эгоистом, самодовольным обывателем!
Робер знал, что неправ, когда говорил мне все это. Он хорошо понимал, что я ненавижу мещан не меньше, чем он сам. А уж что касается самодовольства… Но он опять, как всегда, как в лагере, добивался, чтоб я шел его путем, а не каким-либо иным… А я и сейчас не знаю, правильно ли я поступал, когда вопреки самому себе делал то, чего хотел он.
Может быть, я должен был искать свое… Впрочем, что я тогда знал! Когда мы встретились, мне было 27 лет, а Роберу - 23, но в нашем союзе старшим и более сильным был он. Это Робер организовал побег из эшелона; это он был одним из самых смелых, находчивых, энергичных работников подпольной организации там, в филиале Маутхаузена, куда мы попали после гестапо. Из-за него и я стал смелее, активней, - вероятно, лучше и честней. Но все, что я делал в лагерях, было из-за Робера и для Робера. А теперь он и это считает моим недостатком… Конечно, со своей точки зрения он прав, я его понимаю.
Пожалуй, напрасно он так много об этом думает… И главное, так волнуется… Все, оказывается, гораздо сложней, чем я думал… А впрочем, чего же можно было ждать?
Воспоминания… Опять воспоминания… Как странно-ярко светит солнце - такой праздничный, щедрый, веселый свет!
Где это я? Ну да, все ясно. Мы жили тогда в XIV округе, на шумной улице Алезиа. А маленькая Роз, дочь бакалейщика, жила рядом, на улице Саррет. Нам с ней было по тринадцать лет, и это была моя первая любовь. Я хорошо помнил всегда, что я испытывал, увидев Роз хоть издали. Я помнил ее звонкий, резковатый, но мелодичный голос - голос взрослой девушки; ее выразительные зеленоватые глаза, ее странную улыбку - когда Роз улыбалась, мне казалось, что она сердится. Но я многого о ней не помнил, а может, и не знал.
Сейчас я вижу, как она идет ко мне под ярким солнцем, кокетливо склонив голову набок, и испытываю то детское чувство, смесь восторга и страха, счастья и жгучего стыда, которое запомнилось мне на всю жизнь, и одновременно странное, горькое и грустное чувство переоценки, гибели прежних бесспорных ценностей.
Прежде всего я с изумлением вижу, что Роз некрасива.
Глаза у нее действительно живые и выразительные, но детской прелести в них нет - это глаза маленькой женщины, порочные, жадные, насмешливые. Рот у нее большой и бледный, лицо землистое, шея длинная, худая, голова кажется слишком крупной для ее маленького тщедушного тела. Это дитя парижской улицы, рахитичное, малокровное, чуть ли не от рожденья посвященное во все тайны жизни. Теперь я понимаю, почему Женевьева была недовольна, когда видела меня в обществе Роз.
Роз - в немыслимо коротком зеленом платье, с поясом на бедрах и с короткой складчатой оборкой вместо юбки, почти ничего не прикрывающей. Платье вдобавок так вырезано и спереди, и сзади, и под мышками, что Роз шагает почти голая, но это ее ничуть не смущает - такова мода, даже пожилые дамы до предела укоротили юбки и увеличили вырез декольте.
Вот идет одна, толстая, как мопс, раскрашенная, увешанная побрякушками. Я и Роз провожаем ее взглядом и фыркаем - как смешно, какие толстые ноги, какая жирная, дряблая шея и грудь, и что ей гнаться за модой, ведь старуха, ей уж тридцать, наверно, а может, даже и сорок. Почти все женщины острижены, как мальчишки, затылки “под нуль”, небольшие чубики надо лбом. “Боже, что за нелепая мода!” - думаю я, а мой тринадцатилетний двойник и не смотрит ни на кого, кроме Роз, и она ему кажется самой прекрасной на свете. Он с замирающим сердцем касается ее руки, и меня вдруг пронизывает такое острое чувство - смесь ужаса и наслаждения, - что я вздрагиваю. В то же время я - теперешний - ощущаю, какая сухая, загрубевшая кожа у Роз, как выступают узловатые суставы на ее руках, слышу, что от нее пахнет смесью перца, корицы и дешевых приторных духов… Я морщусь от этого странного букета - и в то же время замираю от восхищения.
Все-таки очень странно… У меня всегда была хорошая память, даже очень хорошая, с самого раннего детства. Я поражал отца и Женевьеву тем, что помнил самые неожиданные и для меня даже не вполне понятные сцены и разговоры, о которых они, взрослые, давно забыли. Иногда бывало, что мотив какой-нибудь старой песенки или повеявший внезапно запах - особенно запах, у него наибольшая власть воскрешать прошлое! - вызывал в памяти целые картины, будто забытые. Но никогда не было таких странных воспоминаний, в которых я действительно помню или, вернее, ясно вижу то, чего никогда не помнил и даже толком не видел, хоть и смотрел.
Вот и это, с маленькой Роз. Ведь я будто из зрительного зала смотрю фильм, героя которого играю я сам. И его ощущения соседствуют с моими. На что это похоже? Ведь это… да, больше всего это напоминает опыты с электродами, вживленными в мозг… или не обязательно вживленными, а только наложенными на череп… Но просто так, ни с того ни с сего… или все же эта проклятая радиация проникает сюда, хоть и в меньшей дозе, и мы по-разному испытываем на себе ее воздействие?
Да и как она может не проникать, ведь это обычная вилла, ничуть не похожая на атомное убежище!
Боже, как это трудно! Его психика целиком настроена на трагический лад. А кроме того, он, как и положено ученому, старается докапываться до сущности явлений… А я устал до того, что… Нет, ничего не поделаешь, надо тянуть дальше…
Откуда, откуда эта странная уверенность, что твоя воля, влияние твоей любви может противостоять всемирной гибели?
Какая нелепость, если вдуматься! Ведь когда я спорил с Робером, речь шла совсем не об этом. Мы часто спорили в последнее время, и больше все об одном. О том… - ну, как бы это поточнее выразить? - о том, что должен делать человек, каждый отдельный человек, видя, что мир стоит на краю гибели. А в том, что мир стоит перед катастрофой, я убеждался с каждйм днем все прочнее. Начиная с Хиросимы. Испытания в Бикини и трагедия японского рыболовного судна, Корея и Алжир, пластики наших “ультра” и расправы с неграми в Америке - все это были звенья одной цепи, симптомы одной и той же смертельно опасной болезни, поразившей человечество: разобщенности, взаимного непонимания и недоверия. Мир гибнет от этой разобщенности, и его не спасти никакими, пусть тысячу раз правильными призывами. Только внутри человека может родиться сопротивление, только любовь и дружба помогут преодолеть недоверие и бессмысленную вражду.