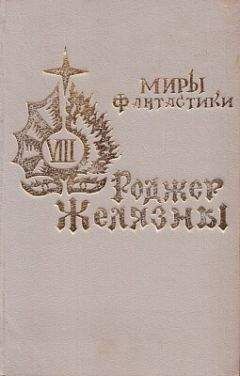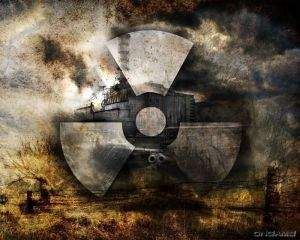Сергей Абрамов - Рай без памяти
— По-моему, она тебе нравилась.
— Давно, пап. Все это ушло вместе с детством.
— Рискуешь, Джемс.
— Без риска нет драки.
— А если без них?
— Это моя пятерка. Все уже согласовано.
— Им дадут другого.
— Я им нужнее. Они пропадут без меня. Ничего не знают, на каждом шагу могут споткнуться. Они как младенцы, пап. Ползунки.
Я услышал рядом тихий смешок. Должно быть, Зернов тогда же решил вернуть комплимент Джемсу.
А разговор не утихал.
— Не боишься провала?
— Будем осторожны. Мы не спешим.
— А если?
— Пострадает всего одна явка. А место работы и место жительства — это лодка, в которой поплывут они сами.
— Значит, отель «Омон»?
— Конечно. У Этьена в запасе всегда несколько комнат.
— Значит, уже двое: Фляш и Этьен.
— Фляш — это твоя инициатива.
— Я не думал тогда о твоем участии, мальчик.
— Какая разница? С Фляшем они могут даже не встретиться, а Этьен для них только владелец отеля. Я буду связан с ними — не он.
— А если провал не по их вине?
— Моей или Этьена? Ты заговариваешься, пап. Все равно что заподозрить Модюи или Грима.
— Тес… без имен, сынок.
— Но мы одни.
— Все равно. Никогда и нигде не называй имен без крайней необходимости.
— Хорошо, отец.
— Может быть, пройдем в сад? Побродим вместе в последний раз.
В полоске света перед нами мелькнули две тени. Скрипнула входная дверь.
— Слыхал? — шепнул Зернов.
— Этьен и «Омон»?
— Он уже не портье.
— Растут люди.
— Какой ценой?
— А нам не все ли равно? Память же у него блокирована.
— Смотря какая память.
Не сказав больше ни слова, мы вернулись к себе. Легли — не хотелось будить ребят. А думали, вероятно, о том же: слишком уж знакомо приоткрывалась завеса будущего. Парижский отель «Омон», где розовые «облака» показали нам самую страшную из своих моделей — модель воспоминаний гестаповца Ланге и его агента Этьена. Мы, живые, прошли сквозь эту гофманиаду, искромсав и сломав ее. В реальной жизни Этьен повесился, здесь он преуспевает. Конечно, он не сохранил памяти своего земного предшественника, и встреча с ним нам ничем не грозит. А если? Не преднамеренна ли эта встреча, не подготовила ли ее чужая воля, как и все наше путешествие в никуда?
Мысль об этом не покидала меня до отъезда — мы расстались с «сердцем пустыни», когда еще не забрезжил рассвет. Я так и не сомкнул глаз, а потом двухчасовое лодочное путешествие вверх по реке, затем в плавнях, долгий пешеходный маршрут по лесу, где Джемс шел, как герой Фенимора Купера, не хрустнув веточкой, не сломав сучка и ни разу не запутавшись в подозрительно схожих тропках, пока мы наконец не вышли на просеку, где пролегала дорога, по которой циркулировали полицейские и омнибусы. Омнибус наш еще не подошел, а «быки» уже скрылись из виду, оставив на душе у каждого тревогу и отвращение.
— В Канаде тоже конная полиция на дорогах, — сказал Мартин.
— Не такая.
— Полиция везде полиция.
— Это фашистская, — убежденно произнес Толька. — Серые эсэсовцы.
Ни один из нас не видал живого эсэсовца, но каждый выражал свою тревогу по-своему.
— Может быть, действительно моделирован фашистский режим, — подумал вслух я.
Зернов не согласился.
— Не следует механически переносить привычные социальные категории, — сказал он. — Фашизм — это порождение определенных экономических условий и политической ситуации. А здесь, скорее всего, что-то вроде диктатуры гаитянского божка с его тонтон-макутами.
Тут только я вспомнил о присутствии Джемса — все о нем забыли, говорили по-английски по привычке для Мартина, не для него. А он, конечно, и половины не понял. Но стоило поглядеть на него в эти минуты: такое жадное внимание светилось в глазах его, такое пылкое желание понять, вобрать в себя все услышанное, стать как бы вровень с нами, что сразу исчезла и напускная его серьезность, и мальчишеская игра в «отца-командира». Он был удивительно красив, этот юноша, — не лицом, нет, а своей всем открытой душевной чистотой. Интересно, гордились ли «облака» таким цельным и чистым созданием и неужели не видели разницы между ним и полицейским, поучавшим меня послушливому смирению? Нужно ли было повторять мир, в котором существовали рядом и эта горилла в золотогалунном мундире, и Феб в ковбойке, может быть встретившиеся на Земле где-нибудь на уличной демонстрации?
Мысль оборвал донесшийся издалека металлический лязг; сквозь него пробивался частый стук копыт, подкованных толстым железом, — такие подковы, должно быть, и увечили и без того уже изувеченную дорогу. Джемс вскочил: «Собирайте рюкзаки, тушите костер. Омнибус!» — и выбежал на проселок с криком, издревле останавливавшим дилижансы, воспетые Андерсеном и Диккенсом.
Но такого они, вероятно, не видели. Обыкновенный автобус, облупленный и запыленный, с двойными колесами на стертых резиновых шинах, но запряженный шестеркой рослых лошадей цугом. На передке, не совсем обычном для автобуса, восседал кучер с длинным, похожим на удочку бичом — единственной диккенсовской деталью в этой смеси времен и транспортной техники. Истошный вопль Джемса заставил кучера придержать лошадей — громадина дрогнула и остановилась. Интересно, что в Москве или Париже мы не назвали бы ее громадиной: любой городской автобус воспринимаешь повсюду как норму уличного движения. Но здесь, в лошадиной упряжке с двумя гигантскими оглоблями, он показался нам чудовищных размеров каретой. Но делиться впечатлениями было некогда: мы втащили рюкзаки в открытую без пневматики дверь, кондуктор-негр оторвал нам розовые талончики и равнодушно отвернулся к окну. Больше никто не взглянул на нас: бич свистнул, и лесная прогалина за окном потянулась назад.
И внутри омнибус, насколько позволяли разглядеть две оплывшие свечи в закопченных стеклянных фонарях в голове и хвосте салона, выглядел даже не двоюродным братом, а прадедом наших московских автобусов. Только пассажиры были похожи: бородатые парни в джинсах и шортах, девчата с короткой стрижкой, полуобнявшиеся парочки. Впереди кто-то бренчал на гитаре, доносился знакомый мотив французской песенки, что-то вроде «миронтон-тон-тон, миронтэн»; кто-то смеялся, кто-то спал.
Я тоже попытался заснуть, измученный долгим и трудным походом, но каждый раз просыпался, когда вагон жестоко встряхивало на средневековых ухабах. И каждый раз в открытое окно доносился свист бича, мерный стук копыт и тяжелое конское дыхание, а сверху мигала мне незнакомая россыпь звезд, посреди которой чуточку ярче мерцал двойной звездный гриф, расширяющийся книзу восьмеркой — профилем большой концертной гитары. На ней, вероятно, играл какой-нибудь здешний космический великан.