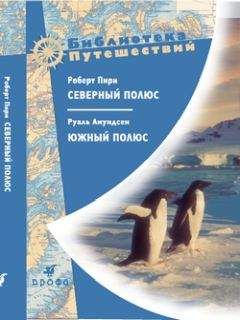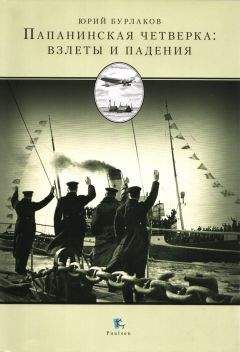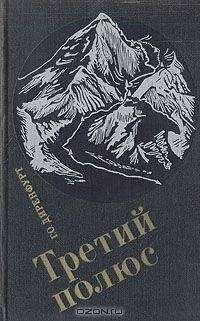Курт Воннегут - Колыбель для кошки
С этой целью Маккэйб переделал всю экономику острова и все законодательство.
А Джонсон придумал новую религию. Тут Касл снова процитировал очередное калипсо:
Хотелось мне во все
Какой то смысл вложить,
Чтоб нам нe ведать страха
И тихо-мирно жить,
И я придумал ложь –
Лучше не найдешь! –
Что этот грустный край –
Сущий рай!
Во время чтения кто-то потянул меня за рукав. Маленький Ньют Хониккер стоял в проходе рядом с моим креслом.
– Не хотите ли пройти в бар, – сказал он, – поднимем бокалы, а?
И мы подняли, и мы опрокинули все, что полагалось, и у крошки Ньюта настолько развязался язык, что он мне рассказал про Зику, свою приятельницу, – лилипутку, маленькую балерину. Их гнездышком, рассказал он мне, был отцовский коттедж на мысе Код.
– Может быть, у меня никогда не будет свадьбы, – сказал он, – но медовый месяц у меня уже был.
Он описал мне эту идиллию: часами они с Зикой лежали в объятиях друг друга, примостившись в отцовском плетеном кресле на самом берегу моря.
И Зика танцевала для него.
– Только представьте себе, женщина танцует только для меня.
– Вижу, вы ни о чем не жалеете.
– Она разбила мне сердце. Это не очень приятно. Но я заплатил этим за счастье. А в нашем мире ты получаешь только то, за что платишь. – И он галантно провозгласил тост: – За наших жен и любовниц! – воскликнул он. – Пусть они никогда не встречаются!
59. Пристегните ремни
Я все еще сидел в баре с Ньютом, с Лоу Кросби, еще с какими-то незнакомыми людьми, когда вдали показался остров Сан-Лоренцо. Кросби говорил о писсантах:
– Знаете, что такое писсант?
– Слыхал этот термин, – сказал я, – но очевидно, он не вызывает у меня таких четких ассоциаций, как у вас.
Кросби здорово выпил и, как всякий пьяный, воображал, что можно говорить откровенно, лишь бы говорить с чувством. Он очень прочувствованно и откровенно говорил о росте Ньюта, о чем до сих пор никто в баре и не заикался.
– Я говорю не про такого малыша, как вот он. – И Кросби повесил на плечо Ньюта руку, похожую на окорок. – Не рост делает человека писсантом, а образ мыслей. Видал я людей, раза в четыре выше этого вот малыша, и все они были настоящими писсантами. Видал я и маленьких людей-конечно, не таких малышей, но довольно-таки маленьких, будь я неладен, – и вы назвали бы их настоящими мужчинами.
– Благодарствую, – приветливо сказал маленький Ньют, даже не взглянув на чудовищную руку, лежавшую у него на плече. Никогда я не видел человека, который так умел справляться со своим физическим недостатком. Я был потрясен и восхищен.
– Вы говорили про писсантов, – напомнил я Кросби, надеясь, что он снимет тяжелую руку с бедного Ньюта.
– Правильно, черт побери! – Кросби расправил плечи.
– И вы нам не объяснили, что такое писсант, – сказал я.
– Писсант – это такой тип, который воображает, будто он умнее всех, и потому никогда не промолчит. Чтобы другие ни говорили, писсанту всегда надо спорить. Вы скажете, что вам что-то нравится, и, клянусь богом, он тут же начнет вам доказывать, что вы не правы и это вам нравиться не должно. При таком писсанте вы чувствуете себя окончательным болваном. Что бы вы ни сказали, он все знает лучше вас.
– Не очень привлекательный образ, – сказал я.
– Моя дочка собиралась замуж за такого писсанта, – сказал Кросби мрачно.
– И вышла за него?
– Я его раздавил, как клопа. – Кросби стукнул кулаком по стойке, вспомнив слова и дела этого писсанта. – Лопни мои глаза? – сказал он. – Да ведь мы все тоже учились в колледжах! – Он уставился на малыша Ньюта: – Ходил в колледж?
– Да, в Корнелл, – сказал Ньют.
– В Корнелл? – радостно заорал Кросби. – Господи, я тоже учился в Корнелле!
– И он тоже. – Ньют кивнул в мою сторону.
– Три корнельца на одном самолете! – крикнул Кросби, и тут пришлось отпраздновать еще один гранфаллонский фестиваль.
Когда мы немного поутихли, Кросби спросил Ньюта, что он делает.
– Вожусь с красками.
– Дома красишь?
– Нет, пишу картины.
– Фу, черт!
– Займите свои места и пристегните ремни, пожалуйста! – предупредила стюардесса. – Приближаемся к аэропорту «Монзано», город Боливар, Сан-Лоренцо.
– А-а, черт! – сказал Кросби, глядя сверху вниз на Ньюта. – Погодите минутку, я вдруг вспомнил, что где-то слыхал вашу фамилию.
– Мой отец был отцом атомной бомбы. – Ньют не сказал «одним из отцов». Он сказал, что Феликс был отцом.
– Правда?
– Правда.
– Нет, мне кажется, что-то было другое, – сказал Кросби. Он напряженно вспоминал. – Что-то про танцовщицу.
– Пожалуй, надо пойти на место, – сказал Ньют, слегка насторожившись.
– Что-то про танцовщицу. – Кросби был до того пьян, что не стеснялся думать вслух: – Помню, в газете читал, будто эта самая танцовщица была шпионка.
– Пожалуйста, джентльмены, – сказала стюардесса, – пора занять места и пристегнуть ремни.
Ньют взглянул на Лоу Кросби невинными глазами.
– Вы уверены, что там упоминалась фамилия Хониккер? – И во избежание всяких недоразумений от повторил свою фамилию по буквам.
– А может, я и ошибся, – сказал Кросби.
60. Обездоленный народ
С воздуха остров представлял собой поразительно правильный прямоугольник. Угрожающей нелепо торчали из моря каменные иглы. Они опоясывали остров по кругу.
На южной оконечности находился портовый город Боливар.
Это был единственый город.
Это была столица.
Город стоял на болотистом плато. Взлетные дорожки аэропорта «Монзано» спускались к берегу.
К северу от Боливара круто вздымались горы, грубыми горбами заполняя весь остальной остров. Их звали Сангре де Кристо (Кровь Христова), но, по-моему, они больше походили на стадо свиней у корыта.
Боливар раньше назывался по-разному: Каз-ма-каз-ма, Санта-Мария, Сан-Луи, Сент-Джордж и Порт-Глория – словом, много всяких названий было у него. В 1922 году Джонсон и Маккэйб дали ему теперешнее название, в честь Симона Боливара, великого идеалиста, героя Латинской Америки.
Когда Джонсон и Маккэйб попали в этот город, он был построен из хвороста, жестянок, ящиков и глины, на останках триллионов счастливых нищих, останках, зарытых в кислой каше помоев, отбросов и слизи.
Таким же застал этот город и я, если не считать фальшивого фасада новых архитектурных сооружений на берегу.
Джонсону и Маккэйбу так и не удалось вытащить этот народ из нищеты и грязи. Не удалось и «Папе» Монзано.
И никому не могло удасться, потому что Сан-Лоренцо был бесплоден, как Сахара или Северный полюс.
И в то же время плотность населения там была больше, чем где бы то ни было, включая Индию и Китай. На каждой непригодной для жизни квадратной миле проживало четыреста пятьдесят человек.