Тимур Литовченко - До комунизма оставалось лет пятнадцать-двадцать
я ее отмою
Звуком чистым, нефальшивым
серебристых струн.
Вы мне глотку разорвете -
думаете, взвою?
Нет, умею я молчать,
пусть я и болтун...
- Если тебе глотку разорвать, ты просто не сможешь издать ни звука, - рассудительно заметила Соня. Миша нехотя возразил, что для искусства сложения песен это не имеет принципиального значения. Но его бесцеремонно прервала девица:
- Да на кой ляд ты вообще завел про ментов?! Менты - суки все до единого! Ненавижу их.
- Я тоже не очень-то люблю, но это непринципиально, - спокойно сказал гитарист.
Мышка отреагировала на его возражение довольно странным образом. Она вскочила, словно подброшенная скрытой пружиной и принялась сыпать отборнейшей руганью в адрес милиции и “всяких пижонистых умников”, которые понахватались ученых слов и которым плевать с высокой колокольни на нее и ей подобных... м-м-мать их растакую! Устав наконец ругаться, девица побежала между могилами не разбирая дороги. Было странно видеть, как ее туфельки с отломанными каблуками мелькают в воздухе, совершенно не касаясь земли.
- Что это с ней? - не понял Юра.
- Так, ерунда. Атавизм земной жизни. Рецидивчик. Но и я хорош, - гитарист потянулся и сел. Теперь стало особенно заметно, что он действительно утратил прозрачность, так как заслонил худыми плечами лежащие ниже по склону братские могилы.
- Я тоже хорош, потому что косынка на ее голове говорит сама за себя, - многозначительно добавил Миша.
- О чем говорит? - переспросил Юра. Гитарист посмотрел на него с жалостью, вздохнул и объяснил:
- Если бы об этом спросила Соня, ничего странного в этом не было бы, а так... Ты же знаешь, чем Мышка кормилась. А наше идиотское государство обывателей не просто молчаливо осуждает такой способ зарабатывания денег, но изобретает также весьма оригинальные методы борьбы с крошками. Потому однажды, в одну прекрасную ночь Мышку, в поте задницы своей отрабатывающую хлеб насущный без масла, мент и два дружинника застукали прямо под забором и тут же наголо, “под ноль” постригли, вернее, побрили. Поэтому она все время в платочке.
- А у тебя они тетрадку со стихами отобрали, - понимающе сказала Соня.
Взревел баян, но Чубик не проснулся, а мешком повалился на левый бок вместе с инструментом.
- Гораздо хуже, - Миша задумчиво поцокал языком. - Это было, когда меня брали. Я удрал на небольшую свалку. Мне оставалось сунуть тетрадь в мусорную кучу, но я... не мог. Просто не мог, чтобы...
Он помолчал и пояснил:
- Рожать детей - привилегия женщин. (Юра постарался не слышать этих слов.) Мужчины не смиряются однако с этим и тоже стремятся родить, только уж каждый на свой лад и в меру своих способностей. “Не мышонка, не лягушку, А неведому зверушку”, - Миша нервно засмеялся. - Я все эти песни... тоже будто рожал. Это были - мои дети, - голос гитариста дрогнул. - Пусть ублюдочные, никчемные, но - дети. И я не мог допустить, чтобы трупы моих детей плавали в ядовито-зеленых лужах и заживо гнили! Сначала я подобранным там же осколком оконного стекла резал им горло...
- Кому?! - ужаснулся юноша.
- Стихам, - тихо сказала Соня.
- Стихам, - так же тихо подтвердил гитарист, потом перевел дух, словно запыхавшись после долгого бега.
- Я брал тремя пальцами: большим, указательным, средним, - каждую страницу и несколькими взмахами кромсал ее, - Миша чеканил слово за словом. - Когда же увидел, что дело продвигается слишком медленно, а меня вот-вот накроют, принялся резать сразу по пять страниц. Затем скомкал все эти бумажные трупы и поджег их. Надо сказать, все сгорело неожиданно быстро, лишь вот эта песня, уже подожженная, непрерывно взмывала в небо в потоке горячего воздуха. Пламя тронуло листок по краям, однако несколько раз гасло. Вот что там было...
Миша запрокинул голову и продекламировал:
- А люди - две половинки
Разорванного сердца.
А им бы соединиться,
Чтоб вместе друг с другом биться.
А им бы не расставаться
Даже и после смерти.
Но боги, жестокие боги
За ними шпионят строго,
И люди ищут вслепую.
И очень часто - напрасно...
- Мои стихи не хотели сгорать! Они корчились в пламени, задыхались в дыму, задыхались перерезанным горлом... Особенно эта. Собственно, это песня тоже, просто я так и не успел положить стихи на музыку. Я сделал это перед самым концом воли и никому еще не успел спеть. Так и не успел...
Гитарист склонился так, что коснулся лбом струн, прошептал:
- Это было страшно. Страшно! Вы не поймете. Убить их, чтоб не достались, кому не надо. Самому зарезать и сжечь собственных детей... Не поймете, - и умолк. Спустя некоторое время Соня осторожно тронула юношу за рукав и показала жестом: мол, пойдем отсюда.
- А ты говоришь: любить ментов! Суки они.
Мышка вышла из-за гранитного памятника хмурясь и поправляя немного сбившуюся косынку. Юра остался сидеть и промолчал. Вообще-то он не говорил, что милицию надо любить, хотя и не совсем был согласен с девицей. Причина тому была чрезвычайно проста: за время работы на стройке его дважды посылали “на дружину” вместе с Колькой Моторчиком. Правда, ничего особенного там не происходило, никаких чрезвычайных происшествий. Посидели в дежурке, вяло покалякали, попили чаю (Юра жалел, что с ними не было Веньки; уж тогда бы время прошло гораздо интереснее!). Нацепив красные повязки прошлись по улицам. И все. Но вдруг Миша и Мышка узнают, что он... ну, тоже вроде дружинника. Тоже сука.
Юра недовольно засопел.
- Тем не менее нечего раздражаться по поводу ментов, как ты. Они тоже люди, и жить им чем-то надо. Конечно, способ их жизни их не оправдывает, но и тебя не оправдывает твоя ненависть, - глухо сказал гитарист. Девица странно посмотрела на него и протянула:
- Чи-во-о-о?
- Ругаться, говорю, не надо. И презирать их нечего, - голос Миши окреп, он смотрел теперь прямо в глаза Мышке. Та сказала с сожалением:
- От кого я все это выслушиваю! Они упрятали тебя в дурдомчик, загнали в угол, заставили сжечь стишки - и ты говоришь такое. Да тьфу на тебя после этого!.. Между прочим, раньше ты говорил по-другому.
- Ну и дурак был! - огрызнулся гитарист. - И если из-за этого (да, именно из-за этого! Что ты на меня уставилась?!) подох как собака, значит, туда и дорога. И дурак был, что не успел ничего сделать, кроме как позубоскалить.
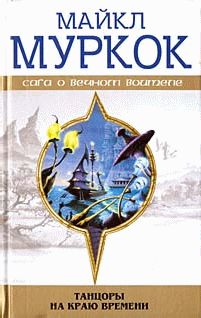

![Майкл Муркок - Танцоры на Краю Времени: Хроники Карнелиана [ Чуждое тепло. Пустые земли. Конец всех времен]](/uploads/posts/books/75413/75413.jpg)