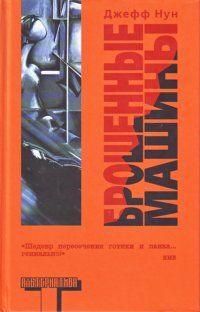Джефф Нун - Брошенные машины
— Его золото меня не прельщало. Пожалуй, виной всему был его глаз! Да, именно! Один глаз у него был как у хищной птицы — голубоватый, подернутый пленкой. Стоило ему поглядеть на меня, и у меня кровь стыла в жилах.
Хендерсон читала, и волосы лезли ей в глаза. У нее длинные волосы, только теперь они грязные и свалявшиеся, а когда она двигает головой, они шевелятся, как живые. Волосы закрывали ее лицо, и я не видела, куда она смотрит. Но у меня было стойкое ощущение, что смотрит она на меня.
— И мало-помалу, исподволь, я задумал прикончить старика и навсегда избавиться от его глаза.
— Вот так вот? — сказал Павлин.
— Ага, — сказала Хендерсон. — Он хочет убить старика. Достал он его.
— Не старик, — сказала Тапело.
— В смысле?
— Его достал не старик, а глаз. И он хотел убить глаз.
— С головой парень явно не дружит, — сказал Павлин.
— Нет, — сказала Хендерсон. — Он тут пишет, что он не сумасшедший. Здесь сказано, что от болезни его чувства только обострились, а вовсе не ослабели и не притупились.
— Какой болезни?
— Тут не объясняется. Может, потом где-то будет.
— А зачем ему убивать этот глаз? — спросил Павлин. — Марлин, ты что-нибудь понимаешь?
— Да. По-моему, да.
— Ему не нравилось, когда на него смотрели, — сказала Тапело.
— Да? — сказала Хендерсон.
— Его бесило, когда на него смотрели.
— А, понятно, — сказала Павлин. — Знакомое чувство.
— Но тут что получается: он же кому-то рассказывает эту свою историю. Значит, на него все равно кто-то смотрит.
— Кто смотрит? — спросила Хендерсон.
— Читатель.
Хендерсон тряхнула головой.
— Давай лучше не умничать. А то у меня от таких рассуждений мозги замыкает.
— Так все задумано. Он хочет вырвать глаза читателю. Рассказчик. Он хочет вырвать глаза читателю!
— Блин, мне это нравится, — сказал Павлин.
— Мудацкие книги, — сказала Хендерсон. — Их следует все запретить. Надо, чтобы издали такой закон.
— Он уже есть, — сказала Тапело. — У тебя в голове.
— Да. Наверное.
— Что?
— Останови машину.
— Я…
— Я сказала, машину останови!
Тапело резко ударила по тормозам. Машина остановилась. Тапело заглушила двигатель. Стало тихо. И только в динамиках радио переливалась электронная мелодия. Первые пару секунд все молчали, а потом Павлин сказал:
— Ты бы, девочка, извинилась.
— Я?!
— Ты.
— А что я такого сделала?
Павлин вздохнул.
— Я не хочу, чтобы она ехала с нами, — сказала Хендерсон. — Давай выметайся.
— Но так же нельзя…
— Выметайся, сказала.
И тогда что-то в Тапело надломилось. Она опустила голову и наклонилась, упершись лбом в руль. Я подумала, что надо вступиться за девочку. Может быть, попросить Хендерсон, чтобы она на нее не сердилась. Уж не знаю, получится что-нибудь или нет, но попробовать можно. Но тут Тапело что-то сказала себе в ладони.
— Не слышу, — сказала Хендерсон. Тапело приподняла голову.
— Прости, пожалуйста.
— Повернись. Я хочу видеть твое лицо.
— Что?
— Повернись ко мне.
Девочка обернулась к нам. Хендерсон уже держала наготове открытое зеркальце и теперь подняла его так, чтобы в нем отразилось только лицо Тапело.
— Так что ты сказала?
Глядя прямо на свое отражение в зеркале, Тапело повторила свои слова:
— Прости, пожалуйста.
— Хорошо.
Дальше мы ехали молча. Павлин углубился в дорожные атласы. Хендерсон закрыла глаза, как будто собралась спать. Я сидела, смотрела в окно. Мысли путались и разбредались. Меня тяготило молчание, но было как-то неловко заговорить. Первой не выдержала Тапело.
— А вы знаете, куда мы едем? — спросила она. Павлин посмотрел на нее.
— В смысле?
— Города на побережье… там хуже всего. Вы не знали? Самые больные районы. Вот почему в эту сторону так мало машин. Вообще нет машин. Мы — единственные.
— Почему? — спросил Павлин. — Почему побережье?
— Ну, есть такая теория, что зона болезни — она как ткань. И она распускается по краям.
Павлин кивнул.
— Ну прямо как я.
— Вот почему все съезжаются в центр. Там безопаснее.
Хендерсон открыла глаза.
— А тут будет какая-нибудь заправка, ну или что-нибудь?
— Будет заправка, — сказала Тапело. — Через пару миль.
— Хорошо. А то я действительно очень хочу в туалет.
Над дорогой висел огромный информационный щит. Буквы мигали золотым светом. Слова были такими яркими, что даже я смогла их прочитать.
Водитель! Ты уже принял «Просвет»?
— Знаете, что я слышал? — сказал Павлин. — Что в таких вот новомодных щитах, в каждом из них, течет столько вытяжки, что одному человеку хватило бы на год, чтобы его вообще не затронуло и не глючило. Даже на полтора года. Может быть, больше. Но это же несправедливо. Это несправедливо.
— Это вообще преступление, — сказала Тапело.
— Вот бы добраться до одного из таких устройств. Электронный Просвет, как они это называют. Блин. Уж я бы тогда развернулся. Сделал бы столько всего.
— Что бы ты сделал? — спросила Хендерсон.
— Ну, много разного.
— А, ну да. Много разного.
— А еще у них есть такая машина… она работает на «Просвете». Нет, правда. Кладешь в нее что-нибудь сломанное, зараженное, что-нибудь, что подцепило шум, а потом вынимаешь уже исправленное.
— Нет такой машины, — сказала Тапело.
— Нет, правда. Я слышал. Это секретная разработка. Машина. Такой черный ящик. А внутри — кусочек пространства, не зараженный болезнью. Кусочек мира, где все сигналы и знаки не тронуты порчей, где вся информация — чистая. Вот бы заполучить эту штуку. Вы только представьте себе… Черный ящик. Сколько бы я тогда сделал.
— Так что бы ты сделал? — спросила Хендерсон.
— А почему ты все время об этом спрашиваешь?
— Ну, просто спрашиваю. Так что бы ты сделал?
— Что бы я сделал? Я бы смылся отсюда на хрен. Только меня и видели.
— Знаете что, — сказала Хендерсон. — Я Павлина нашла на улице. Знаете, что он делал?
— Ну, понеслась.
— Он лежал, в жопу пьяный, в темном переулке, а на голове у него была сумка… ну, с какой ходят по магазинам.
— Правда? — сказала Тапело. — В смысле, пластиковый пакет?
— Нет. Женская сумка. Только большая.
— Слушай, не надо. — Павлин обернулся к Хендерсон, но даже не посмотрел на нее. Его взгляд впился во что-то сзади, сквозь заднее стекло. — Ой, бля.
— Что там? — спросила Тапело.
— Какой-то придурок. Он нас догоняет.
— Где? Я не вижу.